Открытие: 20.02.2018
Обновление: 10.11.2022
Л.
Ф.
Кацис
Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи
![]()
фрагменты книги
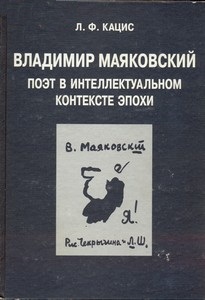 Источник
текста:
Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном
контексте эпохи. М.: Языки русской культуры,
2000.
Источник
текста:
Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном
контексте эпохи. М.: Языки русской культуры,
2000.
В основе монографии
-
докторская диссертация автора.
Леонид Фридович Кацис (1958-2022)
- российский филолог, историк культуры, литературный критик, специалист
по русско-еврейской культуре и литературе. Доктор филологических наук
(2002), профессор РГГУ.
![]()
1.1.1. Розанов. Анненский. Маяковский
23
Владимир Маяковский ворвался в литературу сразу несколькими яркими, а порой и крайне скандальными вещами. Скандальность их могла заключаться в чем угодно - от содержания до формы - или сочетать в себе и то и другое одновременно.
Одним из таких стихотворений, безусловно, является IV часть цикла 'Я':
Я люблю смотреть,
как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили за тоски хоботом?
А я -
в читальне улиц -
так часто перелистывал гроба том.
Полночь промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Источник этого стихотворения был практически сразу после появления стихов Маяковского указан Сергеем Бобровым, который в 1913 году писал: 'В брошюре Маяковского 'Я' последнее стихотворение действительно совсем приятно, но большое влияние Анненского'1.
Это замечание, к сожалению, не привлекло к себе достаточно внимания и уже в последние десятилетия было оспорено одним из авторитетнейших исследователей русского авангарда Н. И. Харджиевым: 'Это утверждение основано на чисто внешнем сходстве нескольких слов из последней строфы стихотворения Анненского 'Тоска припоминания' с начальными строками стихотворения Маяковского'2.
Однако прав оказался Бобров, не ограничивший свое замечание каким-либо одним стихотворением Анненского. Он говорил о влиянии на Маяковского творчества автора 'Кипарисового ларца'.
24
По воспоминаниям М. Алигер, к той же точке зрения была близка и А. Ахматова: 'Анненского-поэта она ставила очень высоко и в одном разговоре с присущей непререкаемостью однажды заявила, что вся поэзия начала XX века вышла из Анненского:
- Во всяком случае, мы: Мандельштам, Пастернак и я. И, может быть, даже Маяковский'3.
К тому же сам Маяковский не скрывал генезиса своей поэзии:
Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять тоскою к людям влекомый...
Это важное место. Ведь здесь Маяковский написал не об одном только Анненском, но вписал себя в целую традицию, которую к моменту написания цитированного 'Надоело' Анненский завершал для Маяковского. Это заставляет рассмотреть стихотворение Маяковского из цикла 'Я' на фоне стихотворений Анненского о тоске, а это, разумеется, не только 'Тоска припоминания', но целый 'Трилистник тоски' и большое посмертно опубликованное стихотворение 'Моя тоска'.
Именно этот набор текстов и оказывается ближайшим поэтическим контекстом стихов Маяковского. Однако чисто поэтическим контекстом дело тут не ограничивается. У обоих поэтов есть общий первоисточник. Об этом - ниже.
Прежде всего, попробуем сформулировать, о чем все-таки идет речь в стихотворении Маяковского. Нам кажется, что ключом к его пониманию оказывается церковная традиция, по которой малые дети умирают безгрешными (по церковным канонам они до 7 лет причащаются без исповеди); считается, что после смерти душа ребенка не может попасть в Ад и т. д.
Именно этой теме чуть раньше посвятил специальное стихотворение и Анненский:
Вы за мною? Я
готов.
Нагрешили, так ответим.
Нам острог, но им цветов...
Солнца, люди, нашим детям!
<... >
Но
безвинных детских слез
Не омыть и покаяньем,
Потому что в них Христос,
Весь со всем своим сияньем.
Вот откуда в стихотворении Маяковского возникает христианская тема.
25
А понять, почему в 'Я' 'Христос из иконы бежал...', помогает другая строфа из стихотворения Анненского 'Моя тоска':
Она бесполая, у
ней для всех улыбки,
Она притворщица, у ней порочный вкус -
Качает целый день она пустые зыбки
И образок в углу - сладчайший Иисус.
Характерно, что и жестокие слова о детях, которые пришли в голову тоскующему Маяковскому, возникли лишь в чуть более мягком варианте в стихотворении Анненского 'Моя тоска':
В венке из
тронутых, из вянущих азалий
Собралась петь она... не смолк и первый стих,
Как маленьких детей у ней перевязали,
Сломали руки им и ослепили их.
Метафора 'прибой смеха' тоже подсказана Анненским:
Всегда веселая она, моя тоска...
Как видим, здесь от символиста Анненского до футуриста Маяковского - один шаг (1909-1913).
Теперь обратимся к стихотворению из 'Трилистника тоски', с которого мы начали наше рассуждение. После сказанного выше, нам кажется, уже невозможно будет говорить лишь о чисто случайном или только формальном совпадении слов в стихах Анненского и Маяковского. И уж тем более исчезают сомнения в том, что Сергей Бобров имел в виду именно влияние Анненского на стихи из цикла 'Я'.
Итак,
Я уйду от людей,
но куда же,
От ночей мне куда схорониться?
<...>
Весь я там
в невозможном ответе,
где миражные буквы маячат...
...Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут.
Теперь вернемся к общему смыслу стихов Маяковского, который, в общем-то, не вытекает напрямую из приведенных стихов Анненского. По-видимому, именно это и привело исследователей к заключению, что при анализе 'Я люблю смотреть, как умирают дети...' можно уверенно говорить лишь о формальном сходстве строк двух поэтов.
26
Между тем стоит задуматься над прямым смыслом стихов 'Я люблю смотреть, как умирают дети...'. Ведь если на одну минуту предположить, что не реальный человек - Владимир Владимирович Маяковский вдруг 'полюбил смотреть, как умирают дети', но поэт, продолжая традицию символистов, представил себя Богом, то стихи зазвучат принципиально иначе. Только Бог в момент Страшного суда может 'читать гроба том'. В момент гибели грешного мира, в момент второго пришествия, единственно дети остались абсолютно безгрешными. Поэтому Бог и любит смотреть на их чистый и безгрешный конец. К тому же эти дети становятся Ангелами Божьими.
Наконец, сама 'радость' по поводу смерти ребенка есть не извращенное чувство садиста-авангардиста, но в религиозном контексте (пусть и с соответствующими модернистско-авангардистскими модификациями), который, мы уверены, имел в виду Маяковский, проблема эта понимается далеко не буквально. Так в надгробном песнопении св. Ефрема Сирина 'Блаженная кончина детей' читаем: 'Кто не будет радоваться, видя детей, отводимых в брачный чертог! Кто станет оплакивать юность, если избегает она греховных сетей? И нас, Господи, вместе с ними возвесели в брачном чертоге.
Хвала тому, кто изводит отселе юность и переселяет ее в Рай! Хвала тому, кто поемлет детей и оставляет их в чертоге блаженства! Безопасно радуются они'4.
Итак, сказанное Маяковским так или иначе соотносится с православной традицией. Традиция почитания смерти безвинного ребенка восходит к Библии (Ветхому Завету)* и развивается в христианстве.
* См. иллюстрацию к циклу 'Я' В. Чекрыгина, выражающую эту мысль. Эта иллюстрация не случайно использует библейский сюжет, связанный с гибелью ребенка.
И тут надо снова вспомнить строку Анненского:
И образок в углу - сладчайший Иисус...
Обратим особое внимание на два последних слова. Выделенные нами слова, а также дата написания стихотворения Анненского - 12 ноября 1909 года - несомненно указывают на источник: дискуссию в октябре-декабре 1907 года (материалы которой были опубликованы в первый раз в 1908 году5) в Религиозно-философских собраниях в Санкт-Петербурге вокруг текста или доклада В. Розанова 'О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира'. Оппонировал Розанову Н. Бердяев, выступивший с докладом 'Христос и мир. Ответ Розанову'6.
Главной темой дискуссии была духовно-религиозная проблема 'смерти ребенка'. Тема эта находилась в центре внимания тогдашней религиозной и философской литературы. Розановым же проблема 'слад-
27
чайшего Иисуса' напрямую связывалась с темой убиения незаконнорожденных детей, по специфически понятым Розановым канонам христианской церкви. Столь же очевидно, что проблемы эти были неразрывно связаны с проблемой 'семейного вопроса в России' опять же в розановской постановке7.
Розанов упорно восставал против христианского отношения к ребенку, к детству как к изначальному приготовлению к смерти. Вот что говорил он в упомянутом докладе 1907 года: '...Монах может блудить с барышней; у монаха может быть ребенок; но он должен быть брошен в воду. Если монах уцепился за барышню, сказал: 'люблю' и не перестану 'любить', как вдруг христианство кончилось. Как только серьезно христианство - в шутку обращается семья, литература, искусство'8.
Как видим, недаром Маяковский в своем стихотворении говорил о 'прибое смеха'. Этот 'смеющийся поэт' сродни '13 апостолу'... Недаром и Анненский говорил о 'веселости своей тоски'! Именно Розанов и есть тот первоисточник, который мы имели в виду.
Итак, уже в одном из самых первых своих стихотворений Маяковский оказался связан с философствованием и публицистикой Розанова, которой суждено будет сопровождать его до последней минуты на этой земле.
28
Однако цитата из Розанова неизбежно вызывает один важнейший вопрос: насколько соответствует церковной реальности его сообщение о том, что ребенок, родившийся у монаха, должен быть обязательно брошен в пруд. Вопрос этот достаточно нетривиален, ибо в случае чего-то подобного монастырский устав предусматривал соответствующее покаяние и наказание. Однако об убийстве речь не идет, что, впрочем, очевидно. И все же этот текст произносится на религиозно-философских собраниях, в которых участвуют и иерархи, и священники, и просто рядовые христиане, но вся розановская эскапада никого не задевает. В чем тут дело?
Причина, по-видимому, в том, что и Розанов, и его оппоненты догадываются, что вызывающий текст имеет некий прототип. Это роман Достоевского 'Бесы'. Этот текст, так же как и розановские сочинения, пребудет с Маяковским до конца его земного существования и нам еще представится масса возможностей в этом убедиться. Сейчас же мы пока без особых доказательств приведем текст из 'Бесов', который, в свою очередь, постоянно использовался Розановым в подтексте его многочисленных сочинений о так называемом 'семейном вопросе в России'.
У Достоевского читаем (в рассказе Марьи Тимофеевны Лебядкиной Шатову): 'Тут и я начну совсем тосковать, то вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка. И все больше о своем ребеночке плачу...
- А разве был? - подтолкнул меня локтем Шатов, все время чрезвычайно прилежно слушавший.
- А как же: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним прочитала, некрещеного понесла, и несу я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше плачу я о том, что родила я, а мужа не знаю.
- А может, и был? - осторожно спросил Шатов.
- Смешон ты мне, Шатушка, своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его все равно что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка! - усмехнулась она'9.
Пока безо всяких доказательств, которые последуют ниже в процессе анализа поэзии Маяковского, заметим, что проблематика семьи, брака, незаконнорожденных детей и т. п. связана в сознании российского общества начала XX века с именем В. В. Розанова. И здесь с самого начала необходимо отметить, что в большинстве случаев, когда нам придется рассматривать связь текстов Маяковского с розановскими, последние будут иметь глубокий 'Достоевский' подтекст.
Продолжим цитирование. На вопрос Шатова: 'Куда же ты ребенка-то снесла?' - жившая в монастыре тайная жена Ставрогина отвечает: 'В пруд снесла'.
29
Итак, у Розанова убийство литературное. У участников религиозно-философских собраний, коли догадались они, о чем говорит Розанов, не было никаких оснований специально обсуждать с ним вопрос о реально незаконнорожденных детях в розановских же терминах.
Но стихотворение может и должно быть понято непосредственно. Вот что пишет Лили Брик в своем 'Анти-Перцове' - обширном комментарии к первому изданию книги В. Перцова о Маяковском (1951): 'Смысл этого стихотворения: жизнь полна страданий, и тоски, и ощущения одиночества. Чем раньше кончится такая жизнь, тем лучше для человека. Чем раньше человек умрет, тем лучше для него. Поэтому и - 'Я люблю смотреть, как умирают дети...'.
Как говорится - 'недолго помучился'. Так говорили когда-то в народе об умерших детях <...> Это горькое выражение взято резко-парадоксально, как единственное, что может радовать человека, любящего и жалеющего людей.
Маяковский позволил себе небольшую поэтическую вольность - дать вывод не в конце стихотворения, а в начале <...> И наконец - все можно приписать Маяковскому - 'футуристический эпатаж', и всевозможные вредные влияния. Все что угодно, но только не цинизм. С кем бы и как бы ни спорил Маяковский, как бы резко ни 'эпатировал' противника, но цинизм ему не был присущ ни в малейшей степени, и истолковывать эту 'загадочную' строку как садистскую - значит не только не понять смысл этих шести слов, но и обнаружить полное непонимание характера Маяковского, особенностей его творчества, совершенно исключающих даже какую бы то ни было тень цинизма'10.
Нам представляется, что и все сказанное ею не противоречит нашему мнению о том, что стихотворение 'Я люблю смотреть, как умирают дети...' не только не циничное, но и трагическое и апокалиптическое, полностью укоренено в своем времени и его проблемах. А то, что Маяковский был не чужд основных веяний своего времени и разбирался в них куда лучше его посмертных критиков, говорят воспоминания К. Чуковского, который писал: 'Маяковский издевательски, но очень внимательно штудировал Иннокентия Анненского и Валерия Брюсова. С чрезвычайным интересом вникал в распри символистов с акмеистами, часами у меня в кабинете перелистывал журналы 'Аполлон' и 'Весы''11.
Если имя Брюсова действительно часто попадало в поле иронического зрения Маяковского, то, как мы видели выше, творчество Иннокентия Анненского занимало в жизни Маяковского куда более серьезное место. Что же касается самого стихотворения 'Я люблю смотреть, как умирают дети...', то и его цитатный слой, и контекст и более далекие источники, использованные нами, задают координаты дальнейшего продвижения к пониманию раннего Маяковского в процессе его взаимодействия с В. В. Розановым12, Ф. М. Достоевским, К. И. Чуковским. А в дальнейшем они будут получать все новое и новое развитие.
К анализу строки "Я люблю смотреть, как умирают дети".
Юрий Карабчиевский. Воскресение Маяковского (1983, изд. 1985), из 3-й главы:
Леонид Равич, ученик и поклонник, рассказывает: "Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дернул за язык, тихо проговорил:
-- Я люблю смотреть, как умирают дети...
Мы пошли дальше.
Он молчал, потом вдруг сказал:
-- Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?"
Неужели вы думаете, что это правда? Так он мог бы сказать о любой своей строчке, о каждом стихе.
Трудность восприятия его стихов есть трудность нахождения соответствия, фиксации подлинных чувств и оценок. Задача эта неразрешима в принципе, потому что на том конце стиха -- не вожделенная суть и правда, а произвольно выбранная оболочка, то есть снова знак, а не смысл.
Это был неутомимый дезинформатор. Не только истина в высшем смысле, но простая обыденная правда факта не имела для него никакого значения. И не то чтобы он всегда специально обманывал, но просто знать не знал такого критерия. Декларативность и полемический строй стиха чрезвычайно подчеркивают это обстоятельство. Почти ни одно его утверждение не выдерживает сопоставления с реальностью -- ни с реальностью чувства, ни с реальностью быта, ни с реальностью, им же самим утвержденной в соседних стихах или даже в соседних строчках.
Любил ли он смотреть, как умирают дети? Он не мог смотреть, как умирают мухи на липкой бумаге, ему делалось дурно.
"Вам, берущим с опаской и перочинные ножи..." Кто поверит, что эти издевательские строки написал человек, смертельно страшившийся вида крови и действительно бравший с опаской перочинный нож и даже иголку? А все кровавые водопады с "сочными кусками человечьего мяса", как же они? Да точно так же. Грязь, пот, слюна, жевотина в изобилии текут по ступенькам его строк, и это все прекрасно уживается с его знаменитым гуттаперчевым тазиком, питьем кофе через соломинку и мытьем рук после каждого рукопожатия. То само по себе, а это -- само. То -- реальность изделия и воздействия, это -- реальность жизни и быта. Разные вещи. Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано.
![]()
30
1.1.2. Гейне. Анненский. Маяковский
Итак, уже с самых первых шагов нашего анализа становится ясно: тексты Маяковского представляют собой сложную мозаику, скомпонованную не только из известных нам текстов или сочинений, которые читатель должен так или иначе узнать. В противном случае действительно можно договориться до любых, самых бессмысленных обвинений в адрес поэта. Однако 'радости узнавания' цитат лишь в первом слое текста явно недостаточно. Это ярко демонстрирует пример с цитатой из розановского 'Иисуса Сладчайшего' и 'Бесов' Достоевского.
Читая Маяковского, мы должны будем на протяжении всей книги постоянно учитывать и, по-видимому, очевидный для современников подтекст, например, розановских текстов, внятный Маяковскому и учтенный им.
Наконец, именно анализ ранних текстов Маяковского-футуриста заставляет читателя и исследователя как можно внимательней присматриваться к их источникам, подтекстам и т. п. Ведь при анализе более поздних произведений героя нашей книги мы будем уже опираться на полученное в первых главах. Понятно и то, что сам поэт, сочиняя свои позднейшие вещи, лучше кого бы то ни было знал их источники и содержание, развивал по мере надобности и в соответствии со своим типом жизнестроительства те или иные мотивы.
Поэтому нас не должно удивлять, что ранние стихи столь полно реализовались во всем последующем творчестве поэта, породив то, что Р. Якобсон позже назовет 'необычайным единством символики' от ранних произведений до самых поздних.
Ясно и то, что ранние стихи Маяковского представляют собой крайне многосоставный текст. Это заставляет нас по несколько раз обращаться к одному и тому же произведению, пытаясь выявить как можно больше его источников и подтекстов. Конечно, все они окажутся действительно доказанными лишь в том случае, если так или иначе отразятся в позднейших сочинениях Маяковского или будут использованы его сторонниками или противниками в диалоге с поэтом.
Одним из таких случаев оказывается уже рассмотренное нами сочинение Маяковского 'Я' и его подтексты из И. Анненского. В свою очередь, подтексты из стихов Северянина, на которые мы укажем, позволят увидеть нечто принципиально новое в самом 'Я', с одной стороны, и чуть позже - реконструировать некоторые аспекты стихотворной полемики двух футуристов.
Трудно сказать, имел ли в виду С. Бобров, говоря обо всем стихотворном цикле Маяковского 'Я' (а не только о стихотворении 'Я люблю смотреть, как умирают дети...'!), лишь стихи Анненского в качестве главного источника интересующего нас текста. Стоит, однако, предположить, что под словами 'большое влияние Анненского' имелось в виду
31
влияние не только поэтических сочинений, но и, например, влияние 'Книги отражений'.
Зная уже кое-что о содержании последней части, разберем весь цикл Маяковского по порядку.
Знаменитые строки:
По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты
-
задают точку зрения лирического героя, который идет
один рыдать,
что перекрестком
распяты городовые.
В таком случае городовые распяты на нем самом. На 'плоскости' его души. Сам же герой одновременно видит, что
города
повешены
и в петле облака
застыли
башен кривые выи.
Видит их герой, идя по мостовой. В этом случае 'мостовая моей души' становится метафорой души поэта, который сверху видит крест переКРЕСТка и распятых городовых. То есть первое стихотворение цикла совсем не противоречит тому, о чем мы говорили в связи с последним стихотворением. Однако в первом стихотворении цикла 'Я' каких-то особых трудностей или малопонятных образов как будто нет.
Этого не скажешь о втором стихотворении 'Несколько слов о моей жене':
Морей неведомых
далеким пляжем
идет луна -
жена моя.
Однако чуть позже, когда речь пойдет об 'эпиграфах' поэмы 'Человек', мы увидим, что лунность - это розановский признак как раз отсутствия плотской любви ('жена'), это образ монастыря. В этом случае слова Маяковского 'Моя любовница рыжеволосая...' звучат достаточно иронично, и даже не столько по отношению к своей реальной
32
'любовнице', сколько по отношению к розановскому первоисточнику 'Люди лунного света'. Тем более в сочетании с отголосками знаменитого северянинского 'Это было у моря...':
Это было у моря,
где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла - в башне замка - Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
Трудно представить себе, что Маяковский использовал и антураж 'морей... пляжа', и довольно очевидную рифму 'экипаж - паж' без оглядки на сверхзнаменитого Северянина в стихах из 'Я':
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
Украшен мишурными блестками
(курсив мой. - Л. К.).
Учтем здесь и сочинение того же Северянина 'Пролог' в 4-х частях, во второй части которого читаем:
Я облеку, как
ночи, в ризы
Свои загадки и грехи,
В тиары строф мои капризы,
Мои волшебные сюрпризы,
Мои ажурные стихи!
В третьей части выясняется, что герой стихотворения провозглашает:
В моей душе такая
россыпь*
Сиянья,
жизни и тепла,
Что для меня несносна поступь
Бездушных мыслей, как зола.
Не мне расчет
лабораторий!
Нет для меня учителей!
Пою в лазоревом просторе
Со свитой солнечных лучей!
* Ср. у Маяковского позднее: 'Наших душ золотые россыпи'. А ещё позднее у Высоцкого: 'Золотые мои россыпи!'.
33
Если вспомнить здесь упомянутые выше 'эпиграфы' к 'Человеку', на сей раз - солнечный: '...солнца ладонь на голове моей', - то связь как стихов Маяковского 'Я', так и поэмы 'Человек' со стихами Северянина станет очевидной.
К тому же местоимение 'я' столь часто в этих стихах Северянина, что даже название цикла Маяковского может прозвучать по отношению к ним вызывающе. Это лишь подтверждает часть 4, которую стоит привести целиком, помня, разумеется, о том, кто в стихах 'Я люблю смотреть, как умирают дети...' из 'Я' мог себе позволить такие слова в столь вызывающем контексте. В стихах же Северянина мессианские претензии выражены куда более открыто:
Я прогремел на
всю Россию,
Как оскандаленный герой!..
Литературного мессию
Во мне приветствуют порой.
Порой бранят меня
площадно,
Из-за меня везде содом!
Я издеваюсь беспощадно
Над скудомысленным судом!
Я одинок в своей
задаче,
И оттого, что одинок,
Я дряблый мир готовлю к сдаче,
Плетя на гроб себе венок!
Это писалось летом 1911 года.
И здесь может возникнуть закономерный вопрос: а есть ли прямая связь между этими стихами и 'Я' Маяковского? Не с общефутуристическим ли гипертрофированным 'я' встречаемся мы здесь?
Ответ, как ни странно, дал сам Игорь Северянин, когда в 1914 году после ссоры с Маяковским он опубликовал стихотворение 'Крымская трагикомедия' с эпиграфом из первого стихотворения цикла 'Пролог', но посвященное разрыву с Маяковским. Это стихотворение было опубликовано в журнале 'Очарованный странник' (ему в нашей работе будет посвящена специальная глава, где мы и рассмотрим обстоятельства отношений поэтов):
И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов.
Из меня
.....
Я
изумился. Все так дико
Мне показалось. Это 'он'.
34
Обращаем внимание на закавыченное 'он', отвечающее в третьем лице на 'Я' Маяковского.
Обрадовался
мне до крика.
- Не розовеющий ли слон?
Подумал я в
восторге млея,
Обескураженный поэт.
Толпа раздалась, как аллея.
Я - Маяковский, - был ответ.
Разочарование Северянина в Маяковском наступит очень скоро после появления цикла 'Я'. Сейчас же для нас важно, что и 'Я' Маяковского названо поэтом открыто. Похоже, что главным эго- и кубо-футуристам достигнуть взаимопонимания было не так уж трудно. Впрочем, как и понять принципиальную разницу между двумя лидерами русского футуризма.
Вернемся, однако, к основному вопросу: о влиянии Иннокентия Анненского, отмеченном Сергеем Бобровым, на цикл Маяковского 'Я'. Как это ни странно, но основным интересующим нас сочинением Анненского оказывается статья 'Генрих Гейне и мы'1; причем, похоже, именно она стала одним из подтекстов стихов Игоря Северянина 'Пролог'. Впрочем, именно связь статьи Анненского о Гейне с творчеством Маяковского может оказаться и не столь удивительной, если мы вспомним многократно описанную и до нас роль творчества немецкого поэта для Маяковского.
Другое дело, что часто мотивы творчества того или иного поэта возникают у Маяковского благодаря чьему-то посредству. Об этом мы и говорили выше.
В нашем случае таким посредником окажется, как нам представляется, Игорь Северянин.
Стихотворение Северянина начинается так:
Прах Мирры
Лохвицкой осклеплен,
Крест изменен на мавзолей, -
Но до сих пор великолепен
Ее экстазный станс аллей.
А статья Анненского так: 'Лет шесть тому назад в Париже на кладбище Монмартра можно было еще видеть серую плиту. На ней стояло только два слова 'Henri Heine'. Всего два, и то иностранных, слова над останками немецкого поэта; два слова, оставленные стоять в течение целых 45 лет на камне, в хаосе усыпальниц парижской бедноты... О, у немцев, очевидно, был не один, а много поэтов, которые назывались
35
Генрих Гейне! Я не думаю, конечно, чтобы поэты так уж нуждались в чьей-нибудь признательности, тем более посмертной, да еще в виде такой претенциозной нелепости, как мавзолей'2.
Заметим, что и само название стихотворений Северянина 'Пролог' отсылает, похоже, к 'Прологу' Гейне из 'Книги песен'. То, что это близко к истине, подтверждает важнейший образ стихотворения Северянина где герой целует 'холодный мрамор' Сфинкса. Ведь в поэме 'Флейта-позвоночник' герой будет целовать губы любимой, сравнивая их с холодом вырубленного в скалах монастыря. Впрочем, разбор этой поэмы ждет нас впереди.
Для понимания Маяковского и его отношения к Гейне, которое далеко не так просто, как кажется, надо помнить и еще одно высказывание Анненского: '...русскому сердцу как-то трогательно близко все гонимое, злополучное и страдающее, а таков именно Гейне.
Далее, мы инстинктивно уклоняемся от всего законченного, застывшего, общепризнанного, официального: истинно наша муза это - ищущая дороги слепая муза Тютчева, если не кликуша Достоевского'3.
Сочетание гейневских мотивов с образами Достоевского, к тому же преобразованными Розановым, еще неоднократно встретится нам на этих страницах. Причем, в сочетании и с проблемой, которая уже начиная с 'Флейты-позвоночника' будет сопровождать жизнь и творчество Маяковского. Мы имеем в виду так называемый национальный вопрос, связанный в первую очередь с происхождением Лили Брик. К тому же еврейский вопрос занимал и Достоевского, и Розанова, и, кажется, Анненского, не говоря уже о Гейне. Поэтому специфическое сочетание 'Еврейских мелодий' из 'Романцеро' с Достоевским, продемонстрированное Анненским для характеристики 'русского Гейне', не может не привлечь нашего внимания: 'Гейне был врагом всякой религии, поскольку она слагается в канон и требует догматов. Если какой-нибудь теолог дочел до конца книгу его 'Еврейских мелодий', то он, разумеется, никогда не простит памяти Гейне его 'Диспутации'.
В этой пьесе талмудист спорит с францисканцем о преимуществе веры; спор ведется жаркий, и победа клонится то на одну, то на другую сторону. Наконец, бойцы выбились из сил. И одной из белокурых героинь Гейне надо решить, кто же победил на турнире. К сожалению, впечатление от доводов получилось у Бьянки хотя и вполне определенное, но нераздельное, и, главное, оно уже совершенно не подходило к богословской материи... Если Гейне не допускал религии как канона, то еще более чуждыми казались ему философские суррогаты вроде деизма. И тем не менее Гейне решительно не мог жить ни без религиозных иллюзий, ни без контраверз в сфере богословия. Даже кощунство Гейне есть, в сущности, признак его непрестанной религиозной возбудимости. Нам ли, впрочем, русским, среди которых вырос Достоевский, не понимать этой своеобразной карамазовщины'4.
36
Эти проявления у Маяковского столь многообразны, что, пожалуй, слово 'Карамазовщина' стоит писать в книге о нем с прописной буквы...
Порой в статье И. Анненского встречаются поразительные параллели тому, что только в самое последнее время смогли увидеть в творчестве Маяковского лишь самые проницательные исследователи.
Так, автор наиболее глубокой за последние пару десятилетий книги о поэте 'Во весь Логос. Религия Маяковского' Михаил Вайскопф в качестве резкого, почти футуристического по яркости жеста начала своей книги на интересующую нас сейчас тему писал: 'Сердце святой Урсулы пылало такой жгучей любовью к Богу, что изо рта у нее шел пар, а после ее кончины обнаружилось, что от сердца остался лишь обугленный клочок. Но от внутреннего огня страждут и злодеи. Святой Юлиан навел огненную порчу на грешника, и тот дымился как печь.
Знаменитые метафоры Маяковского, 'которые изрыгает обгорающим ртом он', преемственны по отношению к этим вещественным преображениям средневековья, типологически однородны с ними...'
Затем Вайскопф приводит ряд важных примеров метафорики сердца, и отмечает, что подобная образность - 'это мистика католического средневековья, его corardens. <...> После того как Игнатий Богоносец* в Риме съеден был зверями, 'при оставшихся его костях, по изволению Божию, сохранилось целым сердце''5.
* Характерно, что именно возглашениями Игнатия Богоносца заканчивает свои рассуждения в знаменитой статье 'О поэзии в заумном языке' Виктор Шкловский.
Если мы правы и статья Анненского является одним из реальных источников поэзии Маяковского (влияние Северянина же сомнений не вызывает), то приведем рассуждения Анненского, следующие прямо за процитированными словами о 'гейневской карамазовщине': 'Любя в богословиях всех стран лишь фейерверк, игру ума, в самой религии Гейне любил ее пафос. О, не риторический, конечно, а настоящий пафос: тот, например, который светится в 'Кевлаарских пилигримах'. Среди молебных даров Мадонне-целительнице принесено было в Кевлаар восковое сердце, - и вот Богоматерь, приблизившись к постели больного юноши, у которого умерла невеста, останавливает источник неусыпляемых мучений, оставляя больного бездыханным. Совершилось чудо, и Гейне не впускает на этот раз своего бесенка. Его пафос, которому Гейне не только всегда и беспрекословно верил, но к которому он относился с каким-то болезненным состраданием, - это был пафос сердца, раненного безнадежной или обманутой любовью'6.
Пожалуй, после этих слов приведенный Вайскопфом материал, охватывающий практически все творчество Маяковского, обретает не только чисто типологический статус.
37
Еще один элемент статьи Анненского заставляет нас сопоставить стихи Северянина 'Пролог' с размышлениями автора 'Кипарисового ларца'. Северянин пишет:
Придет Поэт - он
близок! близок! -
Он запоет, он воспарит!
<................ >
И, опьянен
своим гаремом,
Сойдет с бездушного ума...
И люди бросятся к триремам,
Русалки бросятся в дома!
О, век
Безразумной Услады,
Безлистно-трепетной весны,
Модернизованной Эллады
И обветшалой новизны!..
Этим строкам предшествовало:
Увы! Пустынно на
опушке
Олимпа грозовых лесов...
Проблема признания Гейне 'олимпийцами' рассматривается Анненским сразу же после проблемы 'поэт и мавзолей', о которой мы уже говорили в связи с самым началом как статьи Анненского, так и стихов Северянина.
Отметив, что современники Гейне так и не простили ему его иронии, Анненский пишет: 'Когда-то Прометей горько оскорбил отца Богов профанацией его стихии: он был сурово наказан, но тот же Зевс родил и героя, положившего конец пытке титана. Неужто же олимпийцы оказались менее злопамятными, чем бюргеры Дюссельдорфа и Франкфурта?'
Это, по крайней мере, может мотивировать пустоту на 'опушках Олимпа', но у Северянина речь идет о некоей 'модернизированной Элладе'. Похоже, что ее пример мы также увидим в той же статье: 'Самая анти-классичность Гейне сближала его с нами. Когда-то Шиллер с увлечением и даже проникновенно рядил своих современников в маскарадные костюмы олимпийцев. Но Шиллер любил античность. И, конечно, сам он первый чувствовал, что пишет совсем не то, что читал.
Не так было с Гейне. Стоит прочесть 'Северное море', и вы поймете, что классическая застылость контуров и даже эмблематичность олимпийцев прямо оскорбляла его эстетически'8.
Далее следуют соответствующие примеры. Но у нас нет никаких сомнений в том, что именно последователь Гейне по Анненскому привиделся Северянину в виде 'розового слона' с его модернизированной Элладой.
38
Тем более что в нашем распоряжении имеется еще одна статья Анненского о Гейне, прямо связывающая его с Олимпом, - 'Гейне прикованный', в которой мы встречаем образ очередного слона, и столь же призрачного: 'У сиамского владыки затосковал его любимый белый слон. Ученый астролог предлагает средство, но довольно странное. Слону надо дать кредитив на Ротшильда в rue Lafitte и отправить его с первым же мальпостом в Париж, так как там живет теперь монументальная и белокурая красавица, и они со слоном давно уже тоскуют друг о друге'9. Но это, скорее, мотивная связь Анненского со стихами Северянина. Что же касается Маяковского, то уже начало статьи о 'Гейне прикованном' напоминает нам стихотворение из цикла 'Я' 'Несколько слов о моей маме':
У меня есть мама на васильковых обоях...
А вот текст Анненского: 'Второй сон, нет, не сон, а скорее предрассветный бред, заставляет ожить на обоях сцену einer postumen Galanterie.
Эти обои повторяют узор ковра, который был когда-то искусно вышит Мелисандой. Мелисанда, графиня Триполийская, изобразила на нем себя и рыцаря Жоффруа Рюдель, того самого, которого она нашла умирающим на морском берегу; рыцарь этот никогда ранее не видел Мелисанды, но он любил и пел только ей. И вот теперь по ночам из коврового узора выходят и бесшумно скользят по комнате, говорят друг другу о своей бессмертной любви эти странные любовники ('Жоффруа Рюдель и Мелисанда Триполийская')'10.
Пожалуй, этот пример наиболее ярок. Он соответствует и самому началу статьи: 'Когда при мне скажут 'Гейне', то из яркого и пестрого плаща, который оставил нам, умирая, этот поэт-гладиатор, мне не вспоминаются ни его звезды, ни цветы, ни блестки, а лишь странный узор его буйной каймы и на ней следы его последней арены.
<...> Когда Гейне писал их ('Романцеро'. - Л. К.), он был уже навсегда прикован к постели и, почти слепой, в своей могиле из 12 матрацев страдал невыносимо и лишь с редкими перерывами от грызущей боли в позвоночнике и судорог. <...> Но чем беднее становилась жизнь как восприятие, тем напряженнее искала наполнить пустоту самая душа поэта. В душной комнате расцветали странные, почти осязательные воспоминания'11.
Так создавались, несмотря на боли в позвоночнике, песни Гейне. Не отсюда ли появился у Маяковского образ 'Флейта-позвоночник'?! И еще два образа, с которыми мы уже встречались, причем оба раза в связи с Анненским и стихами 'Я люблю смотреть, как умирают дети...' попадаются в 'Гейне прикованном'.
Напомним, что стихотворение 'Тоска' Анненского заканчивалось строкой 'И образок в углу сладчайший Иисус', которую мы возводили,
39
в частности, к дискуссии в Религиозно-философском обществе 'Об Иисусе сладчайшем'. В свою очередь, эта дискуссия была связана с проблемой мертвого ребенка в докладе В. В. Розанова.
В статье 'Гейне прикованный' это выражение встречается в таком контексте: 'Вот они, Христовы невесты, изменившие своему жениху. Что ни ночь, они должны выходить из своих могил и до самой зари с боковых стульев хора, среди страшно холодной монастырской церкви влагать в старинный напев слова, смысл которых навсегда для них утрачен, покуда давно умерший кистер играет на органе, и тени его рук, сопровождая бессмысленное пение, бешено путают регистры ('Христовы невесты').
И долго просятся бедные призраки из этого холодного мрака, где хуже, чем в могиле, туда, на теплое светлое небо, и так жалобно молят они: 'Сжалься, сжалься, Иисусе сладчайший'12.
Вспомним, что главной проблемой рассуждений Розанова 'Об Иисусе сладчайшем' была как раз проблема монашества и измены ему.
Строка, предшествующая процитированной об Иисусе сладчайшем, у Анненского выглядит так:
Качает целый день она (тоска. - Л. К.) пустые зыбки...
В 'Гейне прикованном' читаем: 'Остались только вороны, туман и никем не оплаканные трупы, - да с ними одинокая, безвыходнопустынная душа поэта... Хотя бы в случайный кров!.. Вон там вдалеке мигает огонек. Пойдем туда: это в хижине углекопа какой-то печальный рыцарь качает зыбку (курсив наш. - Л. К.), качает и поет. Случайно забрел в хижину заблудившийся на охоте король Карл I, и он баюкает своего будущего палача <...> Ходит колыбель, поет рыцарь, а от холода в спине уже шевелятся спущенные локоны на осужденной голове Стюарта ('Карл I')'13.
В стихах 'Моя тоска' 'зыбка' поэта, на сей раз Анненского, пуста. Но есть хотя бы Христос на иконе. У Маяковского нет даже этого, но есть поэт, взирающий с позиции Бога на апокалиптический 'гроба том'.
Таким оказывается для русских футуристов - наследников Анненского - 'веселый и ироничный' Генрих Гейне. И лишний раз вспоминаются слова Анны Ахматовой о роли предтечи акмеизма для Маяковского. И не звучит странным совпадением эта мысль рядом с блестяще точным замечанием футуриста Сергея Боброва о том, что стихи 'Я!' действительно приятны, но слишком (впрочем, это дело поэта. - Л. К.) много Анненского. И лишний раз убеждаешься, что чисто Формальные сопоставления метров и ритмов мало что дают для анализа столь сложного поэта, как Маяковский. К его 'Флейте-позвоночнику' и так называемому 'собачьему циклу' мы сейчас и переходим.
91
Примечания
1.1.1
1 Цит. по: Харджиев Н.,
Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 197.
2 Там же. С. 197-200.
3 Алигер М. В последний раз // Воспоминания об Анне
Ахматовой. М., 1991. С. 355.
4 Св. Ефрем Сирин. Блаженная кончина детей // Творения Иже
во Святых отца нашего Ефрема Сирина. 4-е изд. Сергиев Посад.
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1900, Ч. 4. С. 459-460.
5 Розанов В. О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира //
Записки Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества. Вып. 1.
СПб., 1908. С. 19-27.
6 Бердяев Н. Христос и мир. Ответ Розанову // Там же. Вып.
11. СПб., 1908. С. 49-60.
7 Розанов В. Семейный вопрос в России: В 2-х т. СПб., 1903.
8 Он же. О сладчайшем Иисусе... С. 21-22.
9 Достоевский Ф. Бесы // Полн. собр. соч.: В 30 т. М.,
1974. Т. 10. С. 117.
10 Брик Л. Из материалов о В. В. Маяковском // Литерат.
обозрение. 1993. ? 6. С. 61.
11 Чуть другими словами это же сказано в комментариях К.
Чуковского в 'Чукоккале': 'Маяковский ночевал у меня и целыми днями
лежал на диване, пересматривая старые 'Весы', 'Мир искусства',
'Аполлон'' (Чуковский К. Чукоккала. М., 1979. С. 93).
12 Ср. замечательное наблюдение М. Вайскопфа: '...чисто
интонационно строка Маяковского подсказана была, видимо, сентенцией
Розанова, который приписал больному Чехову, предпочитавшему в Италии
архитектурным красотам 'плоть', следующую мысль: 'Люблю видеть, как
человек умирает'' // (Вайскопф М. Во весь Логос. Религия
Маяковского. М., 1997. С. 25-26).
1.1.2
1 Анненский И. Генрих
Гейне и мы // Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 397-404.
(Впервые: Слово: (Литературное приложение). 1906. ? 10).
2 Там же. С. 397.
3 Там же. С. 398.
4 Там же. С. 399.
5 Вайскопф М. Указ. соч. М.; Иерусалим. 1997. С. 5-6.
6 Анненский И. Генрих Гейне и мы... С. 399.
7 Там же. С. 398.
8 Там же.
9 Анненский И. Гейне прикованный // Анненский И.
Книги отражений. М., 1979. С. 154.
10 Там же. С. 159.
11 Там же. С. 154.
12 Там же. С. 158.
13 Там же. С. 155.
![]()
107 (из главы "1.2.2. Маяковский. Достоевский. Ховин")
Наконец, напомним, что именно в 'Бесах' мы видели рассказ Марьи Лебядкиной об утопленном ребенке, который позже отразился в розановском докладе 'Об Иисусе сладчайшем'. В 'Бесах' же мы встречали и эпизод, когда Кириллов говорит о своей любви к плачущему ребенку, что (не исключено) легло если не в основу рассуждений Анненского в его стихах о тоске, то в основу образа Маяковского, актуализированного строками Анненского:
Я люблю, когда в
доме есть дети,
И когда по ночам они плачут...
Даже если вспомнить, что в начале этой книги мы приводили слова св. Ефрема Сирина о радости в связи с блаженной кончиной детей, тем не менее самой основы образа, когда кто-то любит смотреть, как умирают дети, мы не встречали. Теперь, однако, если предположить связь между сценой из 'Бесов', полемикой вокруг футуризма в 10-е годы и культурным контекстом, созданным из текстов Достоевского, становится ясна последовательность развития образа из скандального стихотворения Маяковского.
Первоначальный образ был задан, видимо, полемикой в Религиозно-философском обществе. Затем - стихи Анненского с отсылом и к 'Бесам', и к Розанову. Сам Розанов, отославший читателя и слушателя к рассказу Марьи Лебядкиной. Затем традиционная топика полемики 'отцов и детей' - футуристов и символистов актуализировала самого главного автора соответствующего романа и замкнула его на рассказе Степана Трофимовича о Кармазинове-Тургеневе.
Здесь, разумеется, необходимо отметить, что собственно авангардный жест Маяковского был рассчитан на ничего не подозревающих рядовых читателей и слушателей. Истинный же серьезный смысл его стихов из цикла 'Я!' был рассчитан на совершенно другой и очень узкий круг. Это и был круг современных Маяковскому 'отцов', тех самых 'старичков', с которыми и предстояло бороться 'будущникам'. 'Седыми старичками' были 'прошляки'.
![]()
122 (из главы "1.2.4. Ховин. Философов. Блок")
Вернемся теперь к заключительной части статьи В. Ховина из 8-го выпуска 'Очарованного странника'. После всех рассуждений о Достоевском, подполье, футуризме и т. д. Ховин переходит, в конце концов, к рассуждениям о Блоке, его Незнакомке и, в связи с этим, к роли 'легенды' поэта в восприятии его читателем и критиком. В сущности, Ховин 'подсоединяет' к своей уже частично описанной нами системе: футуризм - Анненский - Достоевский - Розанов - еще одно имя - Блок.
Если ненадолго вернуться к предыдущему изложению, то окажется, что именно эти имена были принципиальны для нас, хотя, естественно, продемонстрированные выше сопоставления были напрямую связаны с Маяковским и его восприятием окружающего ближайшего литературного контекста. Тем интереснее увидеть, как подобную систему строит другой литератор, современник Маяковского. И не просто один из современников, но единственный, рискнувший напрямую поставить вопрос о Маяковском и Розанове.
![]()
388 (из главы "2.2.4. Пастернак. Сельвинский. Маяковский")
Образ 'Баллады' <Б. Л. Пастернака>, связанный с мокрым звуком пощечин, которые 'как оплеухи наглости' влеплял, 'шалея, конь' (в сочетании с 'пощечиной, не отмщенной в срок'), возможно, связаны с эпизодом литератур-
389
ной жизни 1900-х годов со знаменитым скандалом вокруг Черубины де Габриак, когда после пощечины, данной Волошиным Гумилеву, Волошин 'когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского: 'Достоевский прав, звук пощечины - действительно мокрый''. С учетом крайней интимности отношения Маяковского к текстам Достоевского, эта цитата из 'Бесов' в стихах Пастернака не могла пройти мимо внимания Маяковского. К тому же и само происшествие ноября 1909 года было лишком известно в литературных кругах.
![]()
![]()
При использовании материалов собрания просьба соблюдать
приличия
© М. А. Выграненко, 2005-2022
Mail: vygranenko@mail.ru;
naumpri@gmail.com