Открытие: 25.10.2014
Обновление: 05.11.2023
Владислав Кулаков
После катастрофы
лирический стих
"бронзового века"
фрагменты
![]()
Источник текста: Владислав Кулаков. Поэзия как факт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 241-249, 270.
Открыта 1-я часть обозначенной в названии главы, посвящённой И. Ф. Анненскому, и ещё один фрагмент из этой книги. В. Кулаков цитирует статью "Бальмонт - лирик".
Владислав Геннадиевич Кулаков (1959 г. р.) - исследователь и публикатор поэзии. Соредактор (вместе с И. Ахметьевым) поэтического раздела антологии "Самиздат века".
![]()
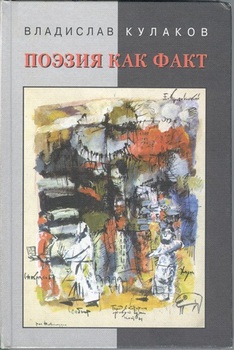 241
241
Одной из главных заслуг поэтов-символистов И. Анненский считал то, что они наконец-то "заставили русского читателя думать о языке как об искусстве". До этого русский язык, обладая великой литературой, не обладал, по Анненскому, собственно литературным стилем. Разумеется, Анненский говорит "О СТИЛЕ ЛИШЬ В ШИРОКОМ (курсив Анненского) смысле этого слова, т. е. о повышенном чувстве речи и признании законности ее эстетических критериев, как об элементе общественного сознания". Вот этого элемента, давно присущего западноевропейской культуре, русскому общественному сознанию и не хватало.
Полемический пафос Анненского направлен против "безраздельного господства журнализма" во второй половине XIX века. Признавая огромное значение художественных произведений "журналистского" (т. е., говоря по-современному, публицистического) типа, "едва ли не вполне чуждых Западу" (Глеб Успенский и Салтыков-Щедрин), Анненский сетует на почти абсолютное забвение собственно поэзии, а значит, и вообще эстетической природы языка, слова. "Слово остается для нас явлением низшего порядка, которое живет исключительно отраженным светом,... - пишет Анненский. - Не находя поддержки в искусстве устной речи, в которой государство не нуждалось, наше слово эмансипировалось лишь весьма недостаточно; при этом оно обязано своим развитием не столько культурной работе, как отдельным вспышкам гения".
Сейчас, в постсоветскую эпоху, ситуация, на мой взгляд, очень схожая. Недаром появились заявления о принципиальной ущербности русской литературной традиции, о неумении и нежелании российского искусства заниматься собственно искусством, а не общественной и духовно-миссионерской деятельностью. Пафос нового эстетизма при всей его порой явной агрессивности (чего, кстати говоря, начисто лишен Анненский) вполне понятен. "Культурная работа", которая по-настоящему развернулась действительно лишь в начале века, была жестоко прервана постигшей Россию социальной катастрофой. Старое искусство планомерно уничтожалось и фальсифицировалось, а когда возникло новое
242
(сразу после смерти Сталина, как только за искусство перестали убивать), то оно, естественно, опять воспринималось общественным сознанием главным образом как рупор идей, средство просвещения и политической борьбы. Наступила эпоха нового "журнализма", закончившаяся на самой высокой ноте - "перестроечными" многомиллионными тиражами. Однако параллельно возрождалась и другая традиция, та традиция "культурной работы", о которой говорит Анненский и которая все же успела пустить достаточно глубокие корни и на российской земле. Конечно, она не могла стать "элементом" советского (или антисоветского) общественного сознания, но сегодня, похоже, именно ей предстоит выйти на первый план (разумеется, если не произойдет новой катастрофы и общество не свернет с пути цивилизованных реформ).
Для Анненского главный предмет искусства не общество, не мораль, а прежде всего сам человек, его самосознание, его "я". Понятно, что "я" не существует вне общества, вне сложных отношений с другими "я", но искусство начинается только там, где "я" отделяется, эмансипируется от других, заявляет о себе как о самостоятельной реальности. (Поэтому в искусстве в конечном счете всегда главное не "что" и "как", а "кто".) Ну и разумеется, "я" становится искусством только тогда, когда это не просто внешнее, частное "я" со своей конкретной биографией, а "я" глубинное, внутреннее - как пишет Анненский, "истинное, неразложимое "я", которое, в сущности, одно мы и можем, как адекватное нашему, переживать в поэзии". Авторское "я" - главное во всех видах и жанрах искусства (даже в "Войне и мире" и в полифоническом Достоевском), но в лирической поэзии, кроме "я", вообще ничего не существует. Ну а само "я" ("истинное, неразложимое") существует, реализуется, становится внятным только в "эмансипированном" слове, в слове, выявившем в "я" и благодаря "я" свою эстетическую природу. Стертое, безличное слово не бывает лиричным. Все это, конечно, очень и очень трудно описать в строгих терминах. "Содержание нашего "я" не только зыбко, но и неопределимо, и это делает людей, пристально его анализирующих, особенно если анализ их интуитивен, - так сказать, ФАТАЛЬНЫМИ МИСТИКАМИ, - пишет Анненский. - Однако в истории художественной литературы, где это "я" всего полнее выясняется, можно, мне кажется, проследить и некоторую правильность в постепенном обогащении его содержания по мере того, как увеличиваются наши познания о душевной жизни человека и как сами мы становимся требовательнее к себе и смелей и правдивей в своем определении". Анненский понимает литературное развитие как непрерывное углубление человеческого самосознания. Человек постоянно открывает
243
в себе что-то новое, в этом главный смысл расширения общей эстетической перспективы, разворачивающейся, кстати, не только в будущее, но и в прошлое: "Мы научаемся видеть в старой поэзии новые узоры и черпать из нее все более глубокие откровения". Новое в самосознании дает новое и в искусстве, и Анненский, говоря о новой поэзии, сосредоточивается именно на этом: "Старые художественные приемы,... вся эта тяжелая романтическая арматура мало пригодна для метерлинковского "я"... "Я" - замученное сознанием своего безысходного одиночества, неизбежного конца и бесцельного существования; "я" в кошмаре возвратов, под грузом наследственности, "я" - среди природы, где, немо и незримо упрекая его, живут такие же "я", "я" среди природы, мистически ему близкой и кем-то больно и бесцельно сцепленной с его существованием. Для передачи этого "я" нужен более беглый язык намеков, недосказов, символов: тут нельзя ни понять всего, о чем догадываешься, ни объяснить всего, что прозреваешь или что болезненно в себе ощущаешь, но для чего в языке не найдешь и слова. Здесь нужна музыкальная потенция слова, нужна музыка уже не в качестве метронома, а для возбуждения в читателе творческого настроения, которое должно помочь ему опытом личных воспоминаний, интенсивностью проснувшейся тоски, нежданностью упреков восполнить недосказанность пьесы и дать ей хотя и более узко-интимное и субъективное, но и более действенное значение. Музыка символов поднимает чуткость читателя; она делает его как бы вторым, отраженным поэтом".
Так, из нового "я", на новом уровне самосознания человека, возникает знаменитый модернистский лозунг, определивший чуть не всю лирику "серебряного века": "Музыка прежде всего". Как видим, Анненский понимает символизм весьма своеобразно. Он фактически отказывается от исповедуемого символистами сознательного, программного мистицизма, признавая лишь мистицизм "фатальный", вынужденный - естественный мистицизм человеческой души. Его не интересует метафизика символизма, его интересуют только стихи, эстетически эмансипированное слово. И действительно, кого сейчас всерьез волнует символистская мистика? А вот художественные открытия символизма стали неотъемлемой частью поэтического языка, основой всей поэзии XX века. Символистский эстетизм сделал большое дело, преодолев социальную закомплексованность литературы второй половины XIX века, литературы эпохи "журнализма". Полемический перехлест в сторону мистической отвлеченности был неизбежен, но уже в недрах символизма возникает и обратное движение - движение к лирической конкретности, наиболее полно воплотив-
244
шееся как раз в поэтическом творчестве самого Анненского.
Об особом характере символизма Анненского, оказавшем решающее влияние на постсимволистскую поэзию и вообще на всю лирику XX века, писали уже не раз. Л. Гинзбург справедливо указывает на психологическую конкретность Анненского, на смелое введение "индуктивных" лирических ходов в "дедуктивную" символистскую художественную ткань. Анненский не случайно говорит об "искусстве устной речи" как о важнейшем факторе эстетической эмансипации слова. Именно в речи выявляется стилистическая и семантическая многомерность слова, его самоценность и самостоятельность. Поэзия символизма в своем крайнем проявлении - это сакральный язык, мистический код для посвященных. Поэзия Анненского - это именно речь, очень субъективная, личностная, порой зашифрованная, но речь, в которой символистски-общее, абсолютное, всегда опосредовано психологической конкретностью лирического переживания и интонационной конкретностью самой речи: "Вы ждете? Вы в волненье? Это бред. Вы отворять ему идете? Нет! Поймите, к вам стучится сумасшедший, Бог знает где и с кем всю ночь проведший, оборванный, и речь его дика, и камешков полна его рука..." Тут даже не просто речь, а полубессознательная скороговорка, речь внутренняя, почти довербальная. Стихотворение "Кошмары", конечно, предельный случай (сон, бред), но выражает общую тенденцию. Анненский остро ощущает довербальную основу лирической речи и постоянно ее подчеркивает. Отсюда его "недосказы", обилие местоимений, которые даже становятся символами: "Все простит им... если это, только Это, а не То". Стих Анненского держится на логике внутренней речи, кристаллизуется из нее, отряхивая все внешнее, наносное, напрямую прорываясь к эмоциональной сути лирического события:
Зажим был так сладостно сужен,
Что пурпур дремоты поблек, -
Я розовых,
узких жемчужин
Губами узнал холодок.
О сестры, о нежные десять,
Две ласково дружных семьи,
Вас пологом ночи
завесить
Так рады желанья мои.
Вы - гейши фонарных свечений...
Абсолютная убедительность этого постоянно цитируемого
245
(вслед за Блоком) стихотворения* не в его модернистской образности ("пурпур дремоты", "желанья", которые "рады завесить полог ночи", да и знаменитые "гейши фонарных свечений" - образы с точки зрения хорошего вкуса весьма сомнительные), а в неимоверном напоре внутренней речи, прорывающейся в стих тем, что Мандельштам позднее назвал "диким мясом, сумасшедшим наростом" - плотью новорожденного слова, явившегося на свет из разбухшей от смысла, густой довербальной тьмы лирического переживания.
В лирическом стихотворении нельзя пользоваться готовыми словами, их надо каждый раз создавать заново - в этом, собственно, и состоит смысл поэтической работы. Конечно, все стихотворение не может состоять сплошь из "дикого мяса" (хотя Мандельштаму и это, кажется, удавалось), но слово, не несущее в себе никакого родового усилия, для поэзии мертво. Поэзия Анненского, став тончайшим инструментом исследования психологических состояний человека, вывела лирический стих как бы на новую орбиту. Лирическая конкретность, "индуктивность", как отмечает Л. Гинзбург, окончательно возобладала над риторической отвлеченностью, "дедуктивностью". Это проявилось в общеакмеистской тяге к предметному слову (Гумилев, ранний Мандельштам), в психологизме и речевой "заземленности" ранней Ахматовой, в "скрежещущей" прозе стихов Ходасевича, в поэзии позднего Мандельштама, уже вплотную приближенной к внутренней речи: "Меня преследуют две-три случайных фразы. Весь день твержу: печаль моя жирна..." Поэты, прямо или косвенно (Пастернак, Цветаева) исходившие из футуристской эстетики, по сути, работали в том же направлении, хотя и в несколько другой плоскости (Анненский, как известно, повлиял и на футуристов). Лирический стих переживает, наверное, величайший в истории русской поэзии расцвет. Но поэтами он (лирический стих), разумеется, осознается не как данность, а как проблема, которую постоянно приходится решать. Между "серебряным" веком и "золотым" существовало огромное напряжение (вспомним, например, примечательное упоминание Ахматовой о "небывалом, почти грозном отношении" Мандельштама к Пушкину), и эта эстетическая разность потенциалов совершала весьма полезную художественную работу. "Классическая роза" вбирала живые соки реальной почвы и расцветала порой самым неожиданным образом.
"Если под ПОЭЗИЕЙ в СТИХАХ понимать поэтические красоты, узкое традиционное поэтичество, то ПРОЗА в СТИХАХ значит совершенную свободу поэта в выборе тем, образов и слов, - писал Набоков о Ходасевиче. - Дерзкая, умная, бесстыдная свобода плюс правильный (то есть в некотором смысле несвободный) ритм и составляют
246
особое очарование стихов..." Новое лирическое "я", о котором говорил Анненский, метафизически обрело абсолютную свободу (в том числе и "бесстыдную", то есть вполне законный для художника аморализм). Единственные законы, которым подчиняется художник, - законы искусства. Впрочем, он сам же их и творит. Здесь, на границе законного, освященного традицией, и незаконного, собственно авторского, и возникает искусство. Жанровая "несвобода" лирического стиха, вся поэтическая традиция - и препятствие, и необходимое условие для формирования собственной поэтической системы, для создания нового слова. А каждый великий поэт - это прежде всего новое, абсолютное в своей неповторимости слово.
Бунин-поэт никогда не принадлежал к числу "культовых" фигур серебряного века. О нем чаще говорят как о некоем архаисте, писавшем в модернистскую эпоху немодернистские стихи. Антимодернизм Бунина бесспорен, но это еще не значит, что он не принадлежит своей эпохе. Бунин - слишком крупный и самобытный художник, чтобы испытывать хоть какую-то зависимость от литературной моды. На самом деле модернистский стих - это как раз то, что уже тогда, у самих модернистов, вызывало раздражение, воспринималось как общее место, как заезженная пластинка ("Крайний модернизм, образцовый, можно сказать, "вся Москва" так писала", - замечает на полях ахматовских "Четок" Блок по поводу явного модернистского штампа в одном из стихотворений). Лирический стих модернистской эпохи и собственно модернисткий стих далеко не одно и то же. Бунин, конечно, далек от "бесстыдной свободы" (вернее, от некоторого самоупоения этим "бесстыдством", присущего, кстати, скорее самому Набокову, нежели Ходасевичу, о котором эти слова сказаны), но в стихе он гораздо свободнее многих истовых модернистов. Его "проза в стихах" (хотя бы знаменитое: "Что ж! Камин затоплю, буду пить... Хорошо бы собаку купить") явно предвосхищает Ходасевича, исследователями отмечено и поистине удивительное пересечение Бунина с поздним Мандельштамом:
Ты высоко, ты в розовом свете зари,
А внизу, в глубине, где сырей и
темней,
В узкой улице - бледная зелень огней,
В два ряда неподвижно
блестят фонари.
В узкой улице - сумерки, сизо, темно,
А вверху - свет зари - и открыто
окно:
Ты глядишь из окна, как смешал Петроград
С мутью дыма и крыш
мглисто-алый закат.
(1914-1917)
247
Здесь яркая и точная, очень графичная бунинская изобразительность, никогда не превращающаяся в описательность, оборачивается экспрессивной живописью, "диким мясом", казалось бы, совершенно несвойственным лирическому темпераменту антимодерниста Бунина. На самом деле художественное мышление Бунина-поэта остро современно: тут то же лирическое "я", о котором писал Анненский и которое, конечно, может выражаться не только модернистским "языком намеков, недосказов, символов". Понятно же, что эстетически значима не декларируемая свобода самовыражения, а свобода выстраданная, завоеванная огромным трудом души и кропотливой работой со словом. Бунин в своих лирических шедеврах, в стихах 1915-1917 годов ("Худая компаньонка, иностранка...", "Щеглы, их звон, стеклянный, неживой...", "Этой краткой жизни вечным измененьем..."), в редких, но существеннейших стихах эмигрантского периода ("Льет без конца...", "Ночная прогулка")* достигает такой поэтической свободы, какая, может быть, была свойственна одному Блоку. Слова возникают сами из довербальной смысловой густоты, из внутренней "музыки", и поэт уже не пишет стихи, а только их записывает:
Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор,
холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной
нет,
Только я да бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от
всех таю...
Холод, блеск, мистраль.
(1952)
* Очень неожиданно было прочитать в антологии "Русская поэзия "серебряного века", 1890-1917" ("Наука", М., 1993) о том, что "с событиями 1917 г. странным образом совпало оскудение поэтического дара Бунина" (с. 93). Да, в эмиграции Бунин стихи пишет гораздо реже, чем раньше. Но разве поэтический дар измеряется количеством написанного?
Вот та "неслыханная простота", о которой мечтают многие поэты.
248
Но эта простота не самоцель, она возникает только как результат, как венец гигантской и очень непростой поэтической работы.
Путь к абсолютной свободе поэтического дыхания не бывает ни легким, ни быстрым. Собственное слово наращивается, кристаллизуется постепенно, по мере создания поэтом собственного поэтического космоса и наполнения его своими смыслами. Набоков - еще один недостаточно оцененный выдающийся лирик XX века - сам отметил случившееся в его поэтическом творчестве конца тридцатых годов "внезапное освобождение от... добровольно принятых на себя оков", что выразилось "в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля". Что такое "твердый стиль"? О нем явно можно говорить в связи с поздним Блоком, Буниным, Ходасевичем. Это стиль, неукладывающийся в рамки какого-либо конкретного поэтического направления. "Твердость" его в том, что он непосредственно опирается на самые фундаментальные, самые общие традиции русской поэтической лирики и сразу выводит стих к классическим вершинам - к Пушкину, Лермонтову, Баратынскому, Тютчеву, Фету... Но, разумеется, этим стилем нельзя просто воспользоваться. Его можно только "открыть", и каждый раз он возникает, создается заново. Преемственность тут, понятно, вообще осуществляется не столько на уровне стиля, сколько на уровне его "твердости", предельной ясности и оформленности.
"Твердый стиль" до некоторой степени альтернативен экспрессивному, суггестивному письму. Здесь в принципе сохраняют свое значение и "дедуктивные" ходы - прямое использование традиционных риторических фигур. Лирика Бунина в этом смысле, наверное, наиболее показательна. Но никакого антагонизма между "твердым стилем" и модернистскими художественными открытиями нет, это ясно видно на примере эволюции поэзии Блока, да и вышеупомянутое совпадение Бунина с поздним Мандельштамом пусть уникально, но отнюдь не случайно. "Твердый стиль" Набокова не исключение. Речевая, интонационная основа его лирики очевидна:
Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету...
249
До завтра, навеки, до гроба -
однажды на старом мосту...
Это стихотворение из романа "Дар" тоже одна из вершин русской лирики XX века (выделял его для себя и сам Набоков и даже еще раз использовал тот же ключевой интонационный ход - в стихотворении "Был день как день" 1951 года: "О чем рыдать? Утешить не умею. Но как затопала, как затряслась, как горячо цепляется за шею, в ужасном мраке на руки просясь"). Вообще поэтика Набокова с ее лексической раскованностью, речевой гибкостью и крайней лирической конкретностью, идущей от его программного, метафизического эгоцентризма, более близка импрессионистичному и солипсичному Пастернаку, чем чтимым им "твердым стилистам" - Бунину и Ходасевичу. Но тут тоже нет никакого противоречия: ведь и Пастернак пришел к "неслыханной простоте", к собственному "твердому стилю" (правда, сделано это было не без некоторого насилия над собой, над органикой своего дара, что проявилось в явной неравноценности написанного Пастернаком в последние годы жизни).
Небывалый расцвет русского лирического стиха первой половины XX века - явление сложное, многогранное, но единое в своей основе, как едина в своих самых общих эстетических и философских открытиях вся великая культура модернизма, "серебряного века". Энергии мощнейшего художественного толчка, зафиксированного Анненским еще в 1904 году, хватило на несколько поколений поэтов. Лирическое "я" ("метерлинковское"), открытое западными модернистами, получило в русской поэзии совершенно самобытное развитие и дало миру чуть ли не десяток гениальных поэтов. Разумеется, у любого поэта, тем более великого, собственное лирическое "я", свое уникальное художественное видение, свой поэтический мир. Но если бы в этом лирическом "я" не было элементов, черт, выражающих еще и ОБЩЕЕ, характерное для данной эпохи, великого поэта тоже бы не было. Меняется эпоха - меняется и лирическое "я", его тип, характер. В каждой новой исторической ситуации человек узнает и проявляет себя с новой, доселе неведомой стороны.
![]()
270
А мне, вслед за И. Анненским, кажется, что никакого единства поэзии вне диалога этих каждый раз принципиально новых общих "я" (возникающих, конечно, каждый раз из частных лирических событий) не существует.
![]()