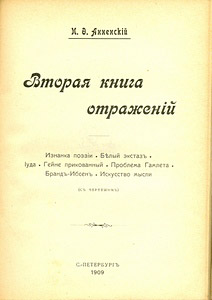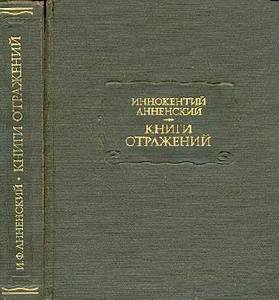Обновление: 20.06.2025
Гейне и его "Романцеро"
Источник текста: КО, с. 153-161. Примечания: с. 600-602.
|
|
153 I Когда при мне скажут "Гейне", то из яркого и пестрого плаща, который оставил нам, умирая, этот поэт-гладиатор, мне не вспоминаются ни его звезды, ни цветы, ни блестки, а лишь странный узор его бурой каймы и на ней следы последней арены. Я полюбил давно и навсегда не "злые песни" Шумана1, не "Лорелею" Листа2, а лихорадочные "Истории" Романцеро. Когда Гейне писал их, он был уже навсегда прикован к постели и, почти слепой, в своей могиле из 12 матрацев страдал невыносимо и лишь с редкими перерывами от грызущей боли в позвоночнике и судорог. Жизнь Гейне стала в это время, помимо муки, какая-то "отвлеченная". Лица друзей уже стирались для него узором обоев; любовь приходила, как сиделка, с состраданием, с услугой, забыв о своих требованиях; смех точно прикрывал судорогу; самый поцелуй уже не томил и не опьянял - это был скорее символ, ускользающая мечта, что-то чужое и случайное... |
|
Жизнь... но уже навсегда без простора, недвижная и без неба... Жизнь - готовая уйти гостья... А лес?.. и его никсы3 - первые музы Гейне?
Послушайте первую пьесу "Ламентаций"4. "Ручей журчит безнадежно, как Стикс, а на его одиноком берегу сидит никса; смертельно бледная и немая, точно каменное изваяние, она кажется погруженною в глубокую печаль. Охваченный состраданием, я хочу подойти к ней, но нимфа быстро поднимается: она только взглянула на меня, - и убегает, а на лице ее ужас, точно она увидела привидение".
Но чем беднее становилась жизнь как восприятие, тем напряженнее искала наполнить окружающую пустоту самая душа поэта. В душной комнате расцветали странные, почти осязательные воспоминания. Фантазия, потеряв свою лесную дикость, обрела взамен ее необычайную, почти болезненную чуткость. Обострилась и ирония; никогда не была она такой злой, ядовитая и богохульная. Музыкальная греза тоже потерпела в душе Гейне резкие изменения, и, конечно, ни разу не подходил он к пределам музыки так близко, как в Nachtliche Fahrt*. Но об этом после. Первая книга "Романцеро" сплошь состоит из пьес, которые скорее всего можно назвать балладами. Казалось бы, что именно к книге "Историй" применимы слова французского критика Гейне, что он "дал нам Легенду веков
154
при вспышках магния"5. Но если вы пристальнее вглядитесь в эту блестящую вереницу призраков, то различите за нею только расширенные ужасом и тоскою глаза больного. Я люблю "Истории" Гейне, потому что это они когда-то унесли у меня иллюзию поэта-чародея и научили угадывать за самыми пестрыми, самыми праздничными из его риз беспомощную и жалкую наготу.
* Ночной поездке (нем.).
![]()
II
Книгу начинает душа старая, но воспоминанием о своей наивности. Фараону Рампсениту надоел ночной вор. Рампсенит поставил дочь сторожить наследственные сокровища. Но увы! Царевна не сберегла не только дедовских, но и собственного: тем не менее весь ее штат рабынь и евнухов заливается хохотом при виде Рампсенита; фараон пришел в гинекей6 посмотреть на вора, а унесет оттуда только мертвую руку, которая осталась у царевны от похитителя ее сокровища.
Мудрый царь Египта, однако, и тут нашелся. С самодовольной помпой теперь он сам особым эдиктом вызывает вора, обещая сделать его наследником трона и любезным зятем. Предложение принято, и с тех пор уже ничто не тревожит по ночам сына неба ("Рампсенит"). Так все на свете улаживается для людей, если они мудры, т. е. не слишком брезгливы. Увы! Зачем и поэт не захотел в свое время быть тоже Рампсенитом?
Между тем душа поэта уходит досыпать свой сон в Сиаме. Здесь тоже ждет ее забота и даже тревога. У сиамского владыки затосковал его любимый белый слон. Ученый астролог предлагает средство, но довольно странное. Слону надо дать кредитив на Ротшильда в rue Lafitte* и отправить его с первым же мальпостом в Париж, так как там живет теперь монументальная и белокурая красавица, и они со слоном давно уже тоскуют друг о друге (как Сосна и Пальма из "Buch der Lieder"**). И вот Махавасант - имя сиамца, - отпустив астролога с дарами, принимается раскидывать умом и туда и сюда, но, так как царям вообще тяжело думать, то, ни до чего не додумавшись, повелитель засыпает, а возле, прикорнув, ложится и его любимая обезьяна ("Белый Слон"). Невозвратимая наивность, жизнь белых слонов, гинекеев, дремлющей пальмы, - и все это сквозь призму старческих воспоминаний, отравленной, больной ночью...
*
На улице Лафит (фр.).
** "Книги песен" (нем.).
А вот и память первого соблазна. Спит душа и видит, что она - герцогиня и танцует в пышном замке Дюссельдорфа и будто кавалер ее как-то особенно гибок и ловок. Только ни за что не хочет он снять маски. Но душа... ведь это еще не та душа, которая будет безнадежно рваться в конце книги из пыточного пламени перед мексиканским идолом, - это еще молодая и своенравная герцогиня. Маска спадает... О, ужас!.. Герцогиня спешит в объятия герцога...
155
Перед нею - палач по прозванью "Горная шельма". Тактичный герцог спасает положение: отныне ловкий кавалер его жены уже не просто палач, а основатель знатного рода ("Шельм-фон Берген").
Но с этих пор для души уже навсегда закрыт тот спокойный, наивный сон, которым засыпала она когда-то среди поклонов астролога и ужимок обезьяны. Ей предстоит жизнь, т. е. борьба, трудности, риск.
В поле идет бой, покуда там, высоко над падающими, на облачных конях носятся валькирии и поют о том, что нет блага выше власти, ни добродетели, которой бы уступало мужество. Бой кончился. Вот и победитель. Он гордо вступает в город; еще вчера ненавистный гражданам, сегодня он принимается с торжеством; бургомистр подносит ключи от города, дамы, улыбаясь с балконов, сыплют ему цветы, а он, наклоняя голову, отвечает им с горделивой уверенностью ("Валькирии").
Между тем в душе уже проснулся поэт - она идет к побежденным. Теперь она, не отрываясь, смотрит на высокую старуху с длинной лебединой шеей. В сопровождении двух монахов эта старуха с самой зари бродит между трупов по полю, где кончилась Гастингская битва7.
И вот, наконец, она находит тело убитого короля и, припав к своему мертвому любовнику, покрывает его поцелуями. И на минуту для души вся жизнь ушла в иллюзию одной жаркой ночи. Но вот смолкло детски-набожное пение Эдиты, и больше не веют ее седые космы. Следом ушли и тяжело дышащие монахи с своей холодной ношей ("Поле битвы под Гастингсом").
Остались только вороны, туман и никем не оплаканные трупы, - да с ними одинокая, безысходно-пустынная душа поэта... Хотя бы случайный кров!.. Вон там вдалеке мигает огонек. Пойдем туда: это в хижине углекопа какой-то печальный рыцарь качает зыбку, качает и поет. Случайно забрел в хижину заблудившийся на охоте король Карл I, и он баюкает своего будущего палача. Шуршит солома, по стойлам блеют овцы; все было бы так мирно, не проблескивай из черного угла топор. Покуда от его угрозы скрипят разве надломанные сосны, но зловещий облюбовал себе совсем другую сердцевину. Ходит колыбель, поет рыцарь, а от холода в спине уже шевелятся спущенные локоны на осужденной голове Стюарта ("Карл I").
Эта и две последующих пьесы "Романцеро"8 отделяют голову от туловища: мне всегда страшно, когда я их читаю. Точно вся жизнь, все силы ума и фантазии, воли - последним притоком крови отделяли голову Гейне - такую светлую, такую прекрасную, от его умирающего, заживо похороненного тела... Минута, и окровавленный венец должен скатиться с белокурых волос короля. Но ирония, этот зоркий сторож, поднимает багетку9... И вот перед нами встает целый сонм обезглавленных, а душе хочется смеяться: ее пьянит светлый смех среди этой небывалой феерии: в Трианоне происходит le lever de la reine*. Весь штат Марии Антуанеты налицо, - и ни одной головы. Ее нет и у самой королевы, и только потому,
156
конечно, вопреки этикету, она и без завивки. Между тем жизнь идет своим порядком, и все эти фрейлины и гофмейстерины совсем было приспособились к своему безголовью, - да солнце случайно заглянуло в комнату и в ужасе отпрянуло ("Мария Антуанета"). Еще шаг, и душа поэта, - все в кошмаре головы, отлученной от тела, - загляделась на плясунью.
* Утренний туалет королевы (фр.).
О, это совсем Иродиада:
Ее
пляска меня обезумила. Я теряю рассудок.
Говори, женщина, что должен я тебе
подарить?..
10
Ты усмехаешься? А! Понимаю. Гей вы, драбанты, скороходы! Голову Крестителя! Живо!
Отделенная от тела голова - кошмар больного. Но перед нами вовсе не Иродиада, - это другая плясунья; она хочет более живых красот, ее нега должна быть более трепетной, более ощутимой; музыка ее танца требует ноющей скрипки, и чтобы эта скрипка непременно звучала тут же, в самом Париже, ну, пускай хотя бы в Jardin Mabille*... Нет, ей никто не дарил головы пророка, этой бедной Помаре, - правда, у нее удивительный выезд, но разве же вы не видите, что лошади везут ее вовсе не au bois**, а в госпиталь и что завтра это пленявшее нас гибкое тело для пользы науки распластают ее же сегодняшние кавалеры? ("Помаре".)
* Саду Мабиль11
(фр.)
** В <Булонский> лес (фр.).
Да, распластают - но ведь это будет еще завтра, а покуда разве не ныли сейчас сладострастные струны?.. Посмотрите, как обаятельна эта свежесть. О, да... Но душе больного эта-то свежесть и кажется страшнее всего, потому что в ней - в свежести - таится и смерть, и разложение. Пусть лучше греза, что-то несбыточное, невозможное... тень, безумие...
И вот душа поэта накидывает капюшон монахини. Перед ее глазами по Рейну в лучах заходящего солнца плывет корабль, и весь он в цветах и зелени лавра.
Среди палубы стоит белокурый и кудрявый красавец, и его затканное золотом по пурпуру одеянье сшито, как теперь уже не шьют. В ногах у златокудрого лежит девять женщин, и все они прекрасны, как мраморные изваяния. А сам он поет так сладко, и лира его звучит так нежно, что песня огнем зажглась в сердце монахини. Горе только в том, что все это: и барку, и певца в локонах, и его муз - монахиня узнала Аполлона - видела здесь только она. И вот, когда корабль исчез за поворотом Рейна, - не стыдясь своего капюшона. Христова невеста бежит, влюбленная, по берегу Рейна, бежит и, останавливая встречных, она говорит, как безумная: "Добрые люди! Где же она, где эта цветущая барка, и кто же глядит теперь на золотистые локоны Аполлона и слушает его лиру?".
А люди - кто засмеется, кто вздохнет, но все проходят мимо, и ни одна душа не может понять безумной.
157
Наконец сыскался один добрый человек: он расспросил монахиню поподробнее и не только расспросил, но даже постарался рассеять ее сомнения. О нет, она вовсе не бредила. Только это не был Аполлон. Знаю, знаю твоего красавца. Точно, рабби Файбиш обольстителен. Положим не Аполлон, но все же он кантор амстердамской синагоги. Пурпурный плащ? Боже мой... Знаю даже, почем была и материя - по восьми флоринов за аршин; да, матушка! И счет еще не выплачен. Лира?.. Да, рабби Файбиш играет, между прочим, и на лире, но он предпочитает ломбер... Язычник?.. О, настоящий - и в этом отчаяние его родителей. Музы?.. Знаю и муз. Даже дом знаю, откуда он понасажал их в свой плавучий ковчег... Особенно есть там... ("Бог Аполлон").
Пусть этот прохожий - только обезьяна сиамца Махавасанта, но разве же нет в жизни этих ужасающих дублетов?.. Мало того, разве не вся она, жизнь, - один сплошной дублет к тому, что грезилось нам, когда мы знали ее только по сказкам? Глядите, вот они, людишки, с их расчетами и страстишками... Вы не хотите поверить, что, умирая, они падают... они падают... в... Не поймешь даже сразу, народ ли это такой мелкий или мышата... Когда-то в молодости Гейне любил размах.. Помните любовное признание, написанное по небесному своду, или гроб, куда положат его любовь и его печаль12. Но никогда не был он охотником возводить на степень людей разную мошкару - уж скорее свою породу приравнять к мышиной ("Маленький народец").
В самом деле, если в людях нет ни пафоса, ни гения, чем будут для них и особенно в них высшие из наших идей и святейшие из заветов?
Посмотрите на этих двух рыцарей13: что осталось в этом глубоком мещанстве от обаяния принципов братства и равенства? Родина, прошлое, будущее, - что такое эти слова теперь для Крапюлинского и многим ли более того для Вашлапского14?
Wohnten in derselben
Stube,
Schliefen in
demselben Bette;
Eine Laus und eine Seele.
Kratzen sie sich um die Wette.*
* (нем., перевод
В. Д. Костомарова).
На одной квартире жили,
На одной
постели спали;
Те же мысли, те же блохи
Бедных взапуски терзали!
Вот они сидят перед камином и вспоминают ("Два рыцаря")...
Да, хорошо вам - мещанство... А нищета? Камин еще вспыхивает, рыцари дремлют... Что это? Сон?.. Ожившая греза?..
Далеко гремит пустыня от музыки ливийских флейт и рогов, струн и бубнов. Вкруг золотого тельца в бешеной пляске кружатся дщери Иаковли15, высокоподпоясанные девы. Быстрее... быстрее... и вот безумный танец поднял и подхватил самого Аарона16, и риза первосвященника мелькает в вихре белых рук и малиновых, смеющихся уст ("Золотой телец").
158
Золото? Да, вот и Аарон заплясал перед золотом. Но иногда ведь и плясать не приходится. Разве не может золото дать чего-нибудь менее тревожного?... Власть, например, - спокойную, мудрую... кроткую?..
Камин вспыхнул и гаснет... дымясь... Нет больше ни вихря, ни музыки... Правда, по стенам еще ходят тени, но скоро не будет и их - воцарится удушливая чернота: это умирает царь Давид и, умирая, передает власть над ними мудрому и набожному Соломону17. Давид умирает спокойно, со смешком даже. Улыбаясь, уходит деспот... О, рабство кончится еще не скоро... Одно щекотливое завещание... Есть такой беспокойный генерал, Иоав18... Но ты с божьей помощью... И вдруг все исчезло... Старое исчезло?.. Лес, свежий лес, британский лес... Уф, как славно! как ярко трубит рог! Свобода...
Ричард-Львиное Сердце ушел от австрийцев19 и чувствует себя так, будто он только что появился на свет и в первый раз видит солнце и небо, впервые дышит полной грудью. Но отчего же, рыцарь, отчего это вдруг ты дал шпоры коню и помчался? Или и за свободу надо платить?.. ("Король Ричард").
Может быть, любовь?.. Уйти целиком в одно желание? Сгореть в нем без остатка?.. Фонтан... турецкая царевна... Азра из Йемена... из того рода, где, полюбив, умирают... ("Азра").
Азра умрет чистым... Но вы, бледные спутники любви... Измена и грех... Та любовь, которая уже перестала светиться сквозь бледнеющее лицо Азры... Загробное воздаяние...
Вот они, Христовы невесты, изменившие своему жениху. Что ни ночь, они должны выходить из своих могил и до самой зари с буковых стульев хора, среди страшно холодной монастырской церкви влагать в старинный напев слова, смысл которых навсегда для них утрачен, покуда давно умерший кистер20 играет на органе, и тени его рук, сопровождая бессмысленное пение, бешено путают регистры ("Христовы невесты").
И долго просятся бедные призраки из этого холодного мрака, где хуже, чем в могиле, туда, на теплое светлое небо, и так жалобно молят они: "Сжалься, сжалься, Иисусе сладчайший". - А тем временем по Рейну, весь обсыпанный лунным светом, скользит легкий челн, и там виднеются женщины, тоже прозрачные, как и их ладья. Там со своей служанкой на веслах ведет за собою по воде пфальцграфиня Ютта семь своих любовников, которых когда-то она велела утопить, чтобы они не любили других. О, есть ли символ безотраднее, есть ли печальнее даже подбор звуков, чем эта жуткая строка баллады Гейне:
So traurig schwimmen
die Toten*
("Пфальцграфиня Ютта").
* Так печально плывут мертвецы (нем.)
После кошмара загробных воздаяний, после холода лунной ночи и этих грустных пловцов, - посмотрите, они еще плывут; вон, вынырнув по самые
159
бедра из черной воды, они тянут вперед, к ладье, окоченелые пальцы, точно клянутся, - душе нужен трогательный чарующий обман.
И вот медленно движется перед нами во главе своего пышного, своего пестрого, но на этот раз странно безмолвного каравана, последний мавританский царь21. Это уходит из Альпухары Баобдил, еще молодой, но уже безутешный. Взъехав на высоту, откуда в последний раз открывается вид на долину Дуэро, царь прощается с Гренадой, которая при закатных лучах кажется ему разубранной в золото и пурпур.
Баобдил задыхается от тоски. Рыдание разрывает ему углы рта, который точно хочет унести отсюда весь воздух родины.
Aber, Allah! Welch ein Anblick!*
* Но что это, Аллах! Какое зрелище! (нем.).
В ответ старая царица разражается укорами против бессильной грусти сына. Но зато после этих укоров еще нежней, еще мелодичней звучит над измученным сердцем изгнанника-Гейне пророчество любимейшей из его подруг...
Она не сулит ему ни возврата, ни новой жизни... Да и зачем бы? Она говорит только:
"О, Баобдил, утешься, мой горячо любимый! Из бездны твоей муки уже пробился и расцветает прекрасный лавр. Нет, не один триумфатор, не только венчанный любимец слепой богини, в памяти людей уцелеет и истекающий кровью сын несчастья и геройский боец, который не осилил своей судьбы" ("Мавританский король").
Второй сон, нет, не сон, а скорее предрассветный бред, заставляет ожить на обоях сцену einer posthumen Galanterie*.
* Посмертной галантности (нем.).
Эти обои повторяют узор ковра, который был когда-то искусно вышит Мелисандой. Мелисанда, графиня Триполийская, изобразила на нем себя и рыцаря Жоффруа Рюдель, того самого, которого она нашла умирающим на морском берегу; рыцарь этот никогда ранее не видел Мелисанды, но он любил и пел только ее. И вот теперь по ночам из коврового узора выходят и, бесшумно скользя по комнате, говорят друг другу о своей бессмертной любви эти странные любовники ("Жоффруа Рюдель и Мелисанда Триполийская").
Сердце Гейне, заживо отданного могиле, не могло создать миража любви в меньшем противоречии с условиями, среди которых оно должно было исходить кровью...
Мираж любви, и какой любви, которая, как мысль, должна "huschen scheu"* в пыльный ковер перед первым лучом зари?.. Или посмертная слава?.. Да, слава... Но где же залог?.. Где же хоть начало расплаты?.. И иначе как поверю я, о, нежная, твоей андалузской гитаре? Послушай... Шах, сам шах, великий повелитель правоверных, это живое
160
воплощение веры, красы, всех мечтаний поэта, - обманул Фирдуси. За "книгу царей" было заплачено не золотом, чтобы оно радовало вещему глаза своим пойманным и завороженным блеском, а бледным серебром22. О, Фирдуси не нужно царского серебра: поэт роздал его носильщикам да наградил им раба, топившего ему баню. И он ушел в далекий город похоронить там свое разочарование. И послы шаха, когда он вздумал исправить свою ошибку, не нашли в этом городе даже праха Фирдуси ("Поэт Фирдуси").
* Здесь: робко шмыгнуть (нем.).
Но что же осталось поэту от жизни?..
Теперь прошлое видится ему, как в тумане. Оно все слилось для Гейне в тумане... ночной поездки. В лодке поехали трое, поехали глубокой ночью втайне, а вернулись уже на заре, и пассажиров было только двое. Одну душу загубили. О, это было сделано не во имя низких побуждений. Как сказать? Может быть, душу даже вовсе не губили, а только дали ей погибнуть... Нет, зачем погибнуть?.. Наоборот, спастись, сохраниться для какого-то другого мира, вовремя уйдя от позора и греха, от нужды и муки дольнего существования? Да, а все-таки их было трое, а стало двое. И ни каббалистические заклинания, ни пылкий цветущий май, который встречает двоих уцелевших, не могут загладить в их сердцах кровавой борозды: ее провел там заглушенный туманом крик.
Да, вот она, - душа, которая вернулась из ночной поездки, отжившая душа... Воздух горит, земля цветет, но это уже не для нее - для нее было то, что она испытала в эту туманную ночь жизни. И кто из нас не вынесет из жизни хоть одного воспоминания, хоть одного смутного упрека, который хотелось бы забыть... но это невозможно. Кто-то шепчет невнятно, но назойливо... Где третий?.. Где загубленная душа?.. ("Ночная поездка").
Глупости... Кошмар... Шелест крови*... Если бы еще весь ужас жизни... заключался только в этих упреках... Но что вы сделаете с Вицли-Пуцли? Заправская пытка - вот к чему привела Гейне жизнь.
* "Шелест крови" присутствует в стихотворении Анненского "Кошмары", а также в статье "Умирающий Тургенев: Клара Милич". Исследования: Аникин А. Е. Ты опять со мной.; Сарычева К. В. Шелест крови: к истории образа. PDF
"Вицли-Пуцли" - самая дико-блестящая, самая злобно-безумная история, которую когда-нибудь сочинил человек, - и при этом ее могло создать только насмерть раненное сердце. Кажется, никогда на палитре не растиралось красок ярче и гуще для изображения страданий.
Муки христиан перед мексиканским идолом, несмотря на колоссальность и уродство обстановки, среди треска и шипения факелов, от которых так мучнисто-белы лица туземцев, упившихся пальмовым вином, - отнюдь не выглядят фееричными - их огнистая красочность до сих пор обжигает кожу.
И вместе с тем ирония все не хочет покинуть пера в сведенных судорогою пальцах Гейне: точно язык высовывает он своей мексиканско-зверской пытке.
И кому же, спрашивается, нужны все эти пытки?.. Все эти славы, любовные чары и т. п. сгорели... их нет... Что же бы еще? Или мученичество?.. Как бы да не так...
Сам великий Вицли-Пуцли, глядя на устроенную в честь него оргию, отлично понимает, что это последки, что завтра ничего ему не будет, да
161
будет ли еще он и сам?.. Ох, право, не напрасно ли по знаку жреца в красной курте23 сегодня нажгли и нарезали столько этих бледнолицых европейских обезьян?..
Как напрасно? Вот там - Кортес24 различил в толпе осужденных собственного сына, свое цветущее дитя. Он смахнул с глаз мохнатой рукавицей непрошеную слезу и продолжал молиться с другими...
Неужто же точно не только Вицли-Пуцли - сказка, но некому слушать и этих благородных испанцев; потому что там... ничего нет? Неужто негодование и ужас, неужто желание отметить за свою никому не нужную измученность, за все обманы бытия, - это все, что остается исходящему кровью сердцу?
600
Впервые: "Перевал", 1907, ? 4 (под
названием "Гейне и его "Романцеро""),
с. 27-34.
([678]) Вошла без изменений в КО 2, с.
57-70. Автограф: ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 133.
Автограф представляет собой черновые
наброски к статье, композиционно
отличающиеся от опубликованного текста.
Существенных разночтений нет.
Печатается по тексту книги.
Статья
написана, вероятно, в августе -
сентябре
1906 г. 11.Х 1906 г. она была послана редактору
"Перевала" С.
А. Соколову (см. письма
к нему).
601
Статья "Гейне прикованный" имеет очевидную связь со статьей "Умирающий Тургенев". Внешне эта связь ничем не выявлена, но достаточно сравнить внутренне противопоставленные названия статей, а также их начальные строки, чтобы ощутить осознанную самим критиком соотнесенность представлений об одной и той же проблеме. Само слово "прикованный", рождая определенные ассоциации, обогащается дополнительным мифологическим смыслом, превращаясь в своеобразный символ. Это не пассивная обреченность, а сопротивление, борьба, активность. Не менее характерно противопоставление слов-знаков, создающих тональность обеих статей. В статье о Тургеневе - это кладбище, венки из бумажных иммортелей, ленты, гроб и т. п. В статье о Гейне - это арена, плащ, звезды, блестки, цветы. Противопоставлены и начала обеих статей (см. с. 37 и 155). Критик последовательно проводит не только антитезу двух смертей, но главным образом душевной опустошенности умирающего Тургенева и духовной полноты прикованного к постели Гейне. Цитаты проверены по изданию: Гейне Генрих, Полн. собр. соч.: В 6-ти т. СПб., 1904.
Отклик на статью: Бурнакин Анат. [Рец.] // Белый камень. М.: Тип. К. Л. Меньшова, 1907. Т. 1. С. 121. Рец. на изд.: Перевал. ? 1-10.
Анненский вспоминает "Романцеро" Гейне в черновом наброске к рецензии на книгу стихов Н. С. Гумилёва "Романтические цветы".
Исследования и наблюдения:
Аникин А.Е. Зимний романс // Аникин А.Е. Иннокентий Анненский и его отражения. Материалы. Статьи. Москва, Языки славянской культуры, 2011. С. 417-420. PDF
1 ..."злые песни" Шумана... - Анненский имеет в виду песню "Вы злые, злые песни" из вокального цикла Роберта Шумана (1810-1856) "Любовь поэта".
2 ..."Лорелею" Листа... - Ференц Лист (1811-1886) - венгерский композитор. "Лорелея" - сочинение Листа для голоса с оркестром (40-50-е годы XIX в.).
3 Никсы - у древних германцев - водяные духи, подобные русалкам.
4 Послушайте первую пьесу "Ламентаций". - "Ламентации" - название второй книги "Романсеро"; "первая пьеса "Ламентаций" - "Испанские Атриды". Анненский дает прозаический перевод последних строк второго стихотворения - "Лесное уединение".
5 ...слова французского критика Гейне, что он "дал нам Легенду веков при вспышках магния". - Слова принадлежат Жюлю Легра. См.: Jules Legras. Henri Heine, poete. Paris, 1897. Указано А. В. Федоровым.
6 Гинекей - женская половина греческого дома.
7 Гастингская битва - битва при Гастингсе (Англия) произошла в 1066 г. и закончилась победой норманнского герцога Вильгельма над войсками англосаксонского короля Гарольда II. Победа Вильгельма привела к покорению Англии норманнами.
8 ...две последующих пьесы "Романцеро"... - См. стихотворения "Мария Антуанета" и "Помаре".
9 Багетка - т. е. багет.
10 Ее пляска меня обезумила... - Строка из стихотворения "Помаре".
11 ...саду Мабиль... (в Париже) - излюбленное место прогулок полусвета.
12 Помните любовное признание, написанное по небесному своду, или гроб, куда положат его любовь и его печаль. - См. стихотворения "Признание" ("Северное море") и "Песни старые, дурные..." ("Лирическое интермеццо").
13 Посмотрите на этих двух рыцарей... - См. стихотворение "Два рыцаря" ("Романсеро"), направленное против польских шляхтичей-эмигрантов, собравшихся после 1830 г. в Париже и дискредитировавших своим поведением польскую эмиграцию. Гейне сочувственно относился к освободительному движению в Польше.
14 ...для Крапюлинского и ... для Вашлапского? - Персонажи из стихотворения "Два рыцаря".
15 ...кружатся дщери Иаковли... - Иаков - один из иудейских патриархов. Стихотворение "Золотой телец", которое пересказывает Анненский, - пародийный перепев библейского сюжета.
16 Аарон - священник, брат пророка Моисея.
17 ...умирает царь Давид и ... передает власть... мудрому и набожному Соломону. - Давид и Соломон, его сын, - цари Израиля. Речь идет о стихотворении "Царь Давид".
18 Есть такой беспокойный генерал, Иоав... - Иоав - военачальник Давида.
19 Ричард Львиное Сердце ушел от австрийцев... - Ричард I Львиное Сердце (1157-1199) - король (с 1189 г.) из династии Плантагенетов. Участвовал в III крестовом походе (1189-1192), во время которого захватил остров Кипр и крепость Аккру (в Палестине). На обратном пути попал в плен к австрийскому герцогу Леопольду V,
602
и тот передал его императору Генриху VI. Был выпущен в 1194 г. за огромный выкуп.
20 Кистер - пономарь, причетник лютеранской церкви.
21 ...последний мавританский царь. - Мавританский король Боабдил, последний мавританский король в Гренаде, низложенный испанцами в 1492 г.
22 Шах ... обманул Фирдуси. За "книгу царей" было заплачено не золотом ... а бледным серебром. - Фирдоуси Абулькасим (ок. 940 - ум. в 1020 или 1030) - персидский и таджикский поэт, автор поэмы "Шахнаме", т. е. "книги царей". Получив за поэму вместо червонцев серебро, Фирдоуси, по преданию, написал сатиру на шаха, за что подвергся опале.
23 Курта (куртка) - короткая мужская одежда, без пол, круглая; камзол с рукавами (В. Даль).
24 Кортес Эрнан (1485-1547) - испанский конкистадор, завоеватель Мексики (1521); открыл также Калифорнию.