Открытие: 30.12.2012
Обновление: 05.11.2021
![]()
Альманах "Очарованный
странник" об Иннокентии Анненском
![]()
Д. А.
Крючков. Критик-интуит (Иннокентий Анненский)
В. Р. Ховин. Поэзия талых сумерек (И. Анненский)
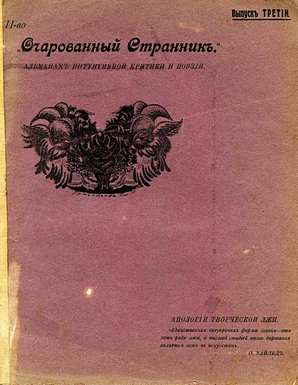 |
Альманах, видимо,
начал историю использования названия хорошо известной повести Н. С.
Лескова (1873). В наши дни она уже не раз экранизирована и даже озвучена
оперным пением. Кроме того, название стало устойчивым шаблоном; с именем
"Очарованного странника" в Сети можно найти литературные фестивали и
сборники, теплоходы, магазины и отели. Но альманах "интуитивной критики
и поэзии" начала XX века остаётся мало исследованным. Попытка обзора и
анализа даётся здесь:
http://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=392.
Обложки экземпляров альманаха в библиотеке 'Im Werden' |
 |
![]()
Д. А.
Крючков
Критик-интуит
(Иннокентий Анненский)
Источник текста и комментариев:
Иннокентий Анненский глазами современников / К 300-летию Царского Села: [Сборник / сост., подг. текста Л. Г. Кихней, Г. Н. Шелогуровой, М. А. Выграненко;
вступит. ст. Л. Г. Кихней, Г. Н. Шелогуровой;
коммент. Л. Г. Кихней, Г. Н. Шелогуровой,
М. А. Выграненко]. СПб.: ООО "Издательство
"Росток", 2011.
С. 482-487.
Первая публикация: Очарованный странник. Альманах интуитивной
критики и поэзии. Вып. 3. Пг., 1914. С. 12-14.
PDF в библиотеке ImWerden
В качестве названия статьи
использован подзаголовок 1-го выпуска альманаха, т. е., скорее всего,
идея редактора В. Р. Ховина.
Д. А. Крючков писал об Анненском и в статье:
Крючков Дмитрий. Чехов-критик // Отклики: Литература - Искусство
- Наука: Приложение к газете День. 1914. ? 14. С. 14.
Дмитрий Александрович Крючков (1887-1938) - поэт, публицист, переводчик. Был членом футуристического кружка 'Ego', созданного И. Северяниным (1911), в 1913 г. вступил в 'Интуитивную Ассоциацию Эго-футуризма'. В 1913-1914 гг. выпустил два поэтических сборника. В послереволюционные годы работал литератором-переводчиком в издательстве 'Academia'. Арестован по групповому делу русских католиков в 1923 г., провел в заключении и ссылках 9 лет. В 1937 г. вновь арестован, в 1938 г. расстрелян.
12
В ничтожном художник-создатель так же велик,
как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит
невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже
получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души...
Гоголь. 'Портрет'.
Анненский-лирик, поэт глубины изумительной, настроений тонких, благоуханных, улетающих, давно принят сердцами; во многих прекрасных кельях чистых душ горят перед его ликом неугасимые лампады благодарной памяти и благоговейного преклонения. Но критик Анненский не в фаворе, в суетном забвении - быть может, 'Кипарисовый ларец', эта изумительная, в некоторых отношениях единственная книга бросает слишком густую тень на первого русского критика-интуита? Я склонен думать, что причина тут другая - в погоне за новым, преклоняясь перед кумирами-однодневками и крепко чихая от пыли взрытого, подчас совершенно справедливо заброшенного хлама, мы забываем о драгоценном наследстве, оставленном нам Анненским - двух небольших 'Книгах Отражений'.
'Поэты пишут не для зеркал и не для стоячих вод. Самое чтение поэта есть уже творчество'1. И это творчество, это воплощение Уайльдовских мечтаний о критике-художнике2 взрастило изумительный сад его художнических блужданий; по этим извилистым, затейливым дорожкам мы последуем за мечтателем.
Не надо бояться его страстности, недоговоренности, чужеречия - ведь он не разбирает и не оценивает - он отдается любимым образам, он поет про свои впечатления, безгранные, неуловимые, как облака знойной порою в вечно желанном небе, такие же причудливые, такие же невероятные и сказочные.
'Нос' и 'Портрет' начинают 'Книгу Отражений' - 'Нос', открывший нам еще новые уклоны гоголевского юмора - вот, вот
13
смех перейдет в хохот бесшабашный, утробный - нет, мелькнуло что-то давящее, зловещее, и из-за сбежавшего наглым образом от своего законного владельца носа выглядывает почтеннейший Передонов3 и жадно ищет в вашей душе местечка получше, где бы наплевать да напакостить. И рядом с этим гулякой-Носом, фантомом - Пьеро с пугающим костяком под балаганным балахоном - 'Портрет' - не повесть, музыка, бред, экстаз. Вот мы от 'Пиковой Дамы' через 'Портрет' придем к Шатовым и Карамазовым, к творчеству того, кто и писать-то не писал, а горячим сердцем исповедовался. Возможно ли о нем, о 'горячем сердце', инквизиторском, пылающем, кровоточащем неустанно, писать потихоньку да полегоньку, не захлебываясь, не проклиная и благословляя, не вопя чрезмерно от мук и радостей, слитых в противоестественный хмель.
Голядкин и коллежский асессор Ковалев, а за ними будочники, квартальные, так себе любопытствующие особы мужеска и женска пола - быт во всей неприглядности своей. На картинках - хорошо, а поближе так и вовсе скверно - душе претит и в нос чем-то неважным шибает. Там глаза - проклятые глаза - перейдена граница художества, живут они, тесно в старой раме... Быть может, поспешит критик к эпилогу - в нем, как на снежных вершинах, дух захватывает. Гоголь просветленный, умудрившийся как дитя, разом взглянувший на родину, как на храм, а на бытиe - как на обряд - страшен и критику-интуиту. Хочется от вершин заледенелых сойти в цветущие долы - посмотрим, как те дышат, на которых еще не взглянули страшные глаза проклятых портретов, около которых не юлит запечным бесенком неизвестно от кого сбежавший Нос. Нежная печаль Чехова - триста лет подождем еще до красивой жизни, а пока... пока будем делать ненужное, скучное, молчать, мечтать. И чуть было не забыли о камне-самоцвете, который здесь, сейчас в руках - о родном слове, переливном, заповедном.
Я - изысканность
русской, медлительной речи,
Предо мною другие поэты - предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны4.
Вот сейчас мы часто браним Бальмонта и поделом - скучно читать его маорийские и прочие 'нарочито-экзотические' стихи. Скучно и неубедительно - сам он в них не поверил, и мы ему не верим. Чудо с Гогеном было пленительно5, а будет ли вновь - кто знает. На то и чудо, чтобы ужасало и изумляло - ведь недаром для него 'пременяется естества чин'6. Но то Бальмонт наш, теперешний, футуристической эры - а тогда это был самовлюбленный, радостный, чрезмерный поэт. Пел и сам себя слушал - и казалось - никогда и голосу не утомиться и песне не окончиться. Вот этого 'молодого' Бальмонта слушал Анненский и в дурмане его напевов создал незабываемую статью о нем - памятник нерукотворный поэту. С какой страстностью, временами даже яростью Анненский нападает на 'обыденный, служилый волапюк': 'Мы слишком привыкли смотреть на слово сверху вниз, как на нечто бесцветно-служилое, точно бы это была какая-нибудь стенография или эсперанто, а не эстетически ценное явление из области древнейшего и тончайшего из искусств, где живут мировые типы со всей красотой их эмоционального и живописного выражения'7. Не правда ли - странная цитата? Не вчера ли это написано - быть может, это в защиту 'самовитого слова' Николай Бурлюк или кто-нибудь из вновь народившихся 'всеков'8 ратоборствует? На книжке - 1906 год, времена давно прошедшие, а написал ее человек, давно канонизованный; мало того - уж некоторые из эстетствующих его на полочку успели поставить и со сладенькой улыбочкой (непременно стилизованной - так приблизительно в духе конца XVIII века!) подумали: 'Покойся, милый прах, до радостного утра!' Под густой пылью, приличествующей музейным антикам, дорогие черты не скоро разглядишь. Крепко надо махнуть - авось тогда и еще что или кто-нибудь с неподобающего места слетит.
Бальмонту посчастливилось найти в Анненском пылкого энтузиаста и тонкого ценителя. В самом деле, ну как не забыть всех прегрешений Настоящего Дня, как не вспомнить этих знакомых и вечно-милых строк.
Нежнее, чем блеск
водоема
Где слитное пение струй,
Чем песня, что с детства знакома,
Чем первой любви поцелуй,
Нежнее того, что желанно
Огнем волшебства своего,
Нежнее чем польская панна
И значит, нежнее всего9.
Я намеренно умолчал еще об одной статье в первой книге 'Отражений'. 'Клара Милич' зажгла Анненского - 'Умирающий Тургенев' назвал он строки, рожденные этим сном, этим трагическим видением Красоты. Я бы сказал 'усопший' - ведь и Анненский думает, что писал это Тургенев на закате лета, многоцветной осенью. 'Золотое успение' - вот невидимый подзаголовок к этой повести, к этому сну Любви и Смерти. И уж в мечтах сейчас сверкает золотая доска, на ней - ангелы темноочитые, много-
14
крылатые несут усопшую в бирюзовые обители. За год до смерти написал Тургенев 'Клару Милич' - 'ощущение непознанного, только манившего и так дерзко отвергнутого'; сердце еще билось жаждой бытия, а за плечами уж встала Утешительница - глядела спокойным и бесконечным взглядом на дух, утомленный дорожной суетой. И не задаваясь целью проникнуть в лабораторию творчества, Анненский жил и горел хоть на мгновенье этим предзакатным, тургеневским сном; близка была ему Красота невоплощенная, нелюбимая: 'Да, стоит жить и даже страдать, если этим покупается возможность думать о Кларе Милич'10.
И во второй книге критик-интуит опять вернулся к любимому образу; легкой тенью прошла Милич по страницам, в туманных далях взглянули Гейне, Лермонтов, Пушкин и Достоевский, конечно Достоевский - неисчерпаемый, пламенный колодец, какой-то непогасающий кратер - бежать хочется и тянет еще и еще заглянуть в темное жерло, где на неведомой глубине клокочет и рвется скованное пламя, и где дым ест глаза и заставляет плакать невольными, щедрыми слезами.
Предисловие Анненского ко второй книге 'Отражений' невелико, но очень значительно; в нем - он целиком перед нами.
'Мои отражения сцепила, нет, даже раньше их вызвала моя давняя тревога. И все их проникает проблема творчества, одно волнение, с которым я, подобно вам, ищу оправдания жизни'11.
Давняя тревога - лозунг этих двух книг. Невелики они по объему, но велико их значение для нарождающейся в наши дни интуитивной критики и для грядущего читателя-творца.
Поиск оправдания жизни терзал Анненского.
┘Чернота коридора
Все безответней и глуше...
Нет, не хочу, не
хочу!
Как? Ни людей, ни пути?.,
Гасит дыханье свечу...
Тише... Ты должен ползти...12
В киевских пещерах душно и глухо, и, может разве дух, к орлиным полетам привыкший, в земле ползти... А наверху вдруг встретится Нос при орденах и в треуголке, а то и Свидригайловская вечная банька вспомянется┘
В давней своей тревоге Иннокентий Анненский подарил русским людям свои две книги 'Отражений'. 'Отражения' ждут своего продолжателя и законного наследника. Ни разнюхиванье обывательства писателя, ни воровское копанье в его кабинетных бумагах, ни плоды еженощного бдения - трафареты журнально-газетной рецензуры не составляют задач художественной критики. Зажечь светильник свой у факела иного, заболеть недугами поэта, влюбиться с Бальмонтом, стать строгим с Сологубом, преклониться вместе с Блоком перед Дамою, похожей на 'вечерних Богородиц' - вот единственный, святой, благодатный путь критика-художника.
Сколько алмазных россыпей, сталактитов в неведомых пещерах Будущего, сколько тонкой, молитвенной прелести в нежно-поблекших фресках Прошедшего! Спешите, новые Челлини13, оправить эти лалы в золото ваших измышлений - вас ждут обрывы, пропасти и просветленность Гоголя и Достоевского, милая сентиментальность и увлекательный романтизм Лескова, воздушные чары чеховских снов - перед вами шумит заповедный бор русской поэзии - каких чудищ вы там ни встретите, какие были и небылицы ни приснятся вам на заповедных его полянах меж колючим ельником да корявым березняком.
Оправдания жизни искал Анненский в проблеме творчества. Нашел ли он его? В статье о 'Кларе Милич' он сравнивает себя с ожидающим очереди у театральной кассы. Этот образ вдруг напоминает нам бунт 'карамазовщины', все тот же заклятый, отвергаемый 'билет на бессмертие'. Но шла жизнь, серели сумерки и в преддверии Бездны пришло успокоение и примирение.
В работе ль там
не без прорух
Иль в механизме есть подвох,
Но был бы мой бессмертный дух
Теперь не дух, он был бы Бог,
Когда б не 'пиль'! да не 'тубо'!
Да не 'тю-тю' после 'бо-бо'!14
Димитрий Крючков
4 января 1914 г.
1 Неточная цитата из вступления к 'Книге отражений'.
Отмечу, что первая фраза этой цитаты была вновь
использована в 5-м выпуске альманаха (1914), как эпиграф к статье В.
Р. Ховина "Елена Гуро" (с. 6-8).
2 Имеется
в виду эссе О. Уальда 'Критик как художник' (1890).
3 Передонов - герой романа Федора
Сологуба 'Мелкий бес'.
4 См. разбор этого стихотворения
('Я - изысканность русской медлительной речи┘') в статье Анненского
'Бальмонт - лирик'
(КО, с. 97-99).
5 Имеется в виду экзотические полотна
П. Гогена, написанные на Таити.
6 Отсылка к литургическим песнопениям
('богородичным'), которые поются и на седмичные дни и повествуют о чуде
рождения Иисуса Христа непорочной Девой. Ср. 'Идеже бо хощет Бог,
побеждается естества чин' (глас 7).
7
'Бальмонт - лирик'.
КО, с. 93.
8 Бурлюк Николай Давидович (1890-1920?) - младший брат
Давида Бурлюка, участник практически всех футуристических изданий.
Считался наиболее умеренным из 'будетлян'. Участник Первой мировой и
гражданской войн, расстрелян по решению херсонского РККА; всеки
-
имеются в виду сторонники одной из многочисленных футуристических
концепций - 'всёчества' (см. 'Живопись всёков'. Публикация Дж. Боулта //
Минувшее, вып. 5. М.: Прогресс, Феникс, 1991) ориентирующей художника на
использование всех (существующих ныне и существовавших ранее) стилей в
собственном творчестве. Авторами концепции всёчества были М. Ларионов,
М. Ледантю, Кирилл и Михаил Здановичи.
9 Из стихотворения К. Бальмонта 'Нежнее
всего'.
10 Цитируется финальные строки статьи
Анненского 'Умирающий Тургенев (Клара Милич)'.
КО, с. 43.
11 Цитата из вступления
к 'Книге отражений'. Курсив Д. Крючкова.
12 Цитата из стихотворения Анненского
'Киевские
пещеры' (СиТ 90, с. 100).
13 Бенвенутто Челлини (1500-1571) - выдающийся итальянский скульптор, живописец, ювелир и музыкант эпохи
Ренессанса.
14 Цитата из стихотворения Анненского
'Человек'
(СиТ 90, с. 134).
![]()
В.
Р. Ховин
Поэзия талых сумерек
(И. Анненский)
Источник текста (первая публикация): Очарованный странник. Альманах интуитивной критики и поэзии. Вып. 4. Пг., 1914. С. 8-10. PDF в библиотеке "ImWerden"
Незначительная редакция (запятые, опечатки).
Виктор Романович Ховин (1891-1944)
- литературный критик, журналист, издатель.
Основатель и редактор альманаха интуитивной критики и поэзии
"Очарованный странник" (1913--1916, 10 выпусков), рупора эго-футуристов.
С 1924 г. в эмиграции. В 1926 г. в Париже открыл издательство и книжный
магазин с тем же названием. Весной 1944 г. отправлен в лагерь
Освенцим-Аушвиц, где и погиб.
![]() Страница Википедии
Страница Википедии
"Критик-интуит
<В. Р. Ховин>
претендовал на место главного теоретика футуризма и одновременно
реального продолжателя дела Иннокентия Анненского".
Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном
контексте эпохи. М.: Языки русской культуры,
2000. С. 98.
8
Среди измен, среди могил
Он, улыбаясь, сыпал розы,
И в чистый жемчуг перелил
Поэт свои немые слезы.
И. Анненский1
Поэзия блёкло-призрачных сумерек, зеленовейной пробуждающейся весны и позолоченной ранней осени, замирающих звонов и идущих из безбрежности шумов...
Поэт талых красок, стоящий у грани небытного, в лунно-сребристых или закатно-жёлтых солнечных лучах призрачное, тающее, дымчатое...
И в этой истоме таянья и замирания - источник томительно-острых, болезненных переживаний поэта; в этом прозревает он "не нашу связь", "лучезарное слияние", слияние с небытным, с ничем и в то же время с чем-то бóльшим, чем данное, видимое и осязаемое. Красота утрат, упоение воспоминанием и враждебность чёткости, данности, вот мир творческих переживаний поэта.
То полудня пламень
синий,
То рассвета пламень алый,
Я ль устал от четких линий
Солнце ль самое устало...
Но чрез полог
темнолистный
Я дождусь другого солнца
Цвета мальвы золотистой
Или розы и червонца.
Будет взорам так
приятно
Утопать в сетях зеленых,
А потом на темных кленах
Зажигать цветные пятна.2
Яркость красок, резанность и чёткость линий, как это ни странно, но в этом для поэта - мёртвость, застылость, и в этой застылости рождается боязнь самому "застывая онеметь". Потому-то чужая ему "грузная" зима - от неё даже дыму не уйти в облака", чужое яркое солнечное лето, ибо душа поэта просит не алых роз, а "роз поблёклых, гиацинтов небывалых, лилий, плачущих на стёклах". И если говорит он о днях, то, конечно, о мягких и осенних днях, если говорит о солнце, то, конечно, о солнце, струящем свои бледно-холодные лучи сквозь цветные узорчатые стёкла храма. Но враждебный застылости одинаково враждебен поэт и шуму, даже "намёкам шума", и средь взвизгов и громыханий действительности тоскует он только о том, чтобы "молча в полутьму уводила думу дума". Шумы, так же как и онемелость, мешают глубокому поэтическому созерцанию, подавляют упоение томящими воспоминаниями и красотой утрат.
...Пойми:
никто
Ему не нужен. Вот, Силен, что страшно,
Живёт в мечтах он, сердцем горд и сух...
И музыкой он болен.
Так говорит нимфа о Фамире*, и Анненскому тоже никто не нужен, - живёт в мечтах и музыкой он болен, болен струнными лунными осеребрениями, свивающими хороводы бледных печальных теней.
* Фамира-Кифарэд. Вакхическая драма.
"Лучей, одних лучей, Там музыка - взы-
9
вает Фамира, и в этом взыве тоска Анненского.
Живу я
Для чёрно-звёздных высей; лишь оне
На языке замедленном и нежном,
Как вечера струисто-светлый воздух,
Мне иногда поют. И тот язык,
Как будто уловив его созвучья,
Я передать пытаюсь, но тоской,
Одной моей тоскою полны струны.
Его тоскою полны струны, его тоскою звучат и жёлтые сумраки золотистой осени, и сиреневая мгла, и закатное мленье Мая, ею трепещут и зеленовейные сады, и томительно безбрежные выси... Но, тоскуя, он всё же не бежал, терзаемый мукою обыденности.
"Жалкого слова не трусь", и он не трусил; в мире будничного, в этом омуте безликом, рассыпал он алмазности слов своих и "ритмами дышал, как волнами кадил", ибо таков был его поэтический темперамент, ибо петь нельзя не мучась.
..." И было мукою для них, что людям музыкой казалось". И свою муку воплотил поэт в печально-нежных ритмах своей поэзии, свою муку, излучённую в закатные сумерки и дымные облака вдохнул он в"бело-тревожные слова"свих строф. И струны пели...
Струны пели, а там наверху улыбалось своей непроницаемой и далёкой улыбкой лицо Зевса; ведь улыбалось оно и тогда, когда подымал Фамира своё окровавленное лицо к бездонному небу и молился ему. И Зевсова улыбка - утверждение будничности, постылости бытия.
Счастье, яркое солнце и наглые маки - только маска, скрывающая будничность и потому-то милее уходящее или не пришедшее. Уходящее, рождающее муку воспоминаний, не пришедшее, рождающее муку невозможного. И "нет конца и нет начала тебе тоскующее я", и пусть Силен говорит Фамире о красочном, горящем перламутрами и розами мире, ответом ему будет: "лучей, одних лучей, там музыка"... Но музыка не была для него обманом, а жизнь в мечтах о ней не была успокоением, и не яркие маки были символом жизни, а похоронные звоны осени и жёлтые лучи умирающего солнца. В своём гордом одиночестве болел он музыкой, но звучала она в таинственной пустоте и безобманности бытия.
"Господа, я не романтик, - пишет Анненский, - я не могу, да и вовсе не хотел бы уйти от безнадёжной разорённости моего пошлого мира. Я... посетил такие сомнительные уголки, что звёзды и волны, как ни сверкай и не мерцай они, а не всегда-то меня успокоят"3. И болеющий тоской, томящийся в обыденности постылого бытия, он всегда оставался романтиком и, не успокоенный, не изменял он своему лирическому я, -- тоскующему я.
Поэт и учёный-филолог, переводчик Еврипида, типичный представитель громадной культуры русского декаданса, Анненский остался в стороне от большинства поэтов, представителей той же культуры, остался в стороне от тяготения их к философической теоретизации, к поэтической схоластике и преодолевающим миропониманиям. И потому-то в хвалебных статьях Г. Чулкова, М. Волошина и В. Иванова об Анненском4 сквозь видимое приятие поэта чувствуется осуждение ему. Импрессионизм и крайний субъективизм, мешающий установлению истин религиозного и символического порядка, отсутствие в его поэзии "многозначительных слов", которые приближали бы нас к миру более глубокому и более реальному, бегство от принудительного канона школы - вот к чему сводится это осуждение, одинаково характеризующее как и самого поэта, так и творческие устремления нашего времени.
"Не всё ли нам равно, активно ли страстный у поэта темперамент или пассивно и мечтательно-страстный. Нам важна только форма его лирического обнаружения"5 - писал Анненский. И не всё ли нам равно, к каким словам и истинам пришёл поэт и каков был его творческий метод, важно лишь одно, оправданы ли они лирически. И Анненский оправдал и свой метод, и свои слова, и свои истины, оправдал их своей поистине художнической совестью, не искушённой ни принудительными канонами, ни многозначительностью слов.
И был бы верно я
поэт,
Когда б выдумывал себя...
И был бы мой свободный дух...
Теперь не "я", он был бы Бог...6
Но Анненский был, конечно, поэтом, и был им потому, что не выдумывал себя, потому, что оскорбительным было для него ограничение своего лирического я каким-либо определённым миросозерцанием, оскорбительным было подавлять произвол творческого вдохновения и свободу стиха верностью рецептам школьных методов. И то, что называют импрессионизмом в творчестве Анненского, т. е. недоговорённость и прикровенность его поэзии, явилось результатом категорического требования его лирической индивидуальности, и, конечно, не импрессионизм привёл поэта к ропоту, унынию и горькому скепсису*, а наоборот, эти настроения должны были привести к прикровенности его поэзии.
* О поэзии И. Ф. Анненского. В. Иванов. "Аполлон" 1910 г. ? 4.
10
Своим поэтическим постижением не уверовал он в значительность непризрачного мира явлений так же, как не найдя в себе религиозного пафоса, не уверовал и в значительность потустороннего, но тайна души, тайна тоскующего я была для него несомненной. 'Я, которое хотело бы стать целым миром, раствориться, разлиться в нём, я, замученное сознанием своего безысходного одиночества, неизбежного конца и бесцельного существования'7 - таково я современности, и в этих строках из статьи о Бальмонте в сущности - желание интуитивно восстановить свою лирическую индивидуальность. А в другом месте в статье 'Изнанка поэзии', Анненский снова говорит о бесцельности существования, о подневольном участии в жизни и о том, что мечтатели имеют с жизнью своё чисто мечтательное общение, в котором каждый чувствует себя не только господином жизни, но и её солнцем ... и чем бесцветнее самый фон моего существования, тем ярче будет сиять ... моё солнце'8. Бесцельное существование - с одной стороны, и чисто мечтательное общение с миром - с другой, я, замученное одиночеством, стремящееся стать целым миром, и замкнутость одиночества, подполье тоскующего я, дышащего ритмами, рассыпающего из своей кошницы алмазные слова и ещё более болеющего алмазностью этих слов в опустошённом мире...
Наивно желание поэта убедить нас в том, что его творческое я, его прекрасное солнце светило не в подполье, наивно желание налгать нам, что он точно обладал жизнью. Наивно это слово "налгать", ибо нельзя поверить его лжи; в сущности, и лгать-то он не собирался, а писал так, желая уверить нас, что не струсил он жалкого слова, не бежал жизни, и что не "зелёной жвачкой" были его мечтания. Из своего подполья жадными глазами смотрел поэт на жизнь, влекущую к себе призразными мимолётными соблазнами, а за ними прозревал он немую черноту, нудную пустоту бытия и Зевсову клыбку, томящую своей неразгаданной значительностью. И прозрачно-прикровенными, мучительно-простыми словами говорил он об опустошённости мира...
В критических статьях, в которых Анненский всегда оставался поэтом, он много писал об эстетических критериях речи и оправдывал законность словотворчества. В его поэзии попытки творчества новых слов - крайне редки и несмелы, и не ими, всё же почти всегда вдохновенно-выразительными, осиянна поэзия Анненского, а повышенным чувством речи, художественной цензурой слов, вытекающей из чувствования самодовлеющей эстетической ценности их.
Есть слова. Их
дыханье - что цвет:
Так же нежно и бело-тревожно...9
И всё в мире внешнем, и всё в мире внутреннем различалось поэтом только по цвету, по окраске, по тонам и цветовым нюансам. В драме "Фамира-Кифарэд" даже сцены окрашены, каждая в свой цвет: сцена тёмно-сапфирная, сцена белых облаков, темно-золотого солнца, лунно-голубая, заревая. Влюблённый в блёклость, для того, что близко и желанно ему, находил он особо прекрасные, особо нежные и мягкие сочетания тонов и сплетал фату "прозрачно-травянистую", которою овуалено всё его творчество.
И не только прекрасные сочетания тонов, но и прекрасные сочетания нежных и мягких слов вплетал он в эту фату.
По жёлтому шёлку ковров, сотканных из опавших осенних листьев, блуждал печальный певец тоскующего я, и эпиграфом к закатно-струнной мелодии его песен могут быть слова:
'если вольное страдание сознательно бесцельно ... оно удел только
избранных.
И только избранные умирают молча в одиноком изумлении'10...
= = = = =
1 Из
"Рождение и смерть поэта".
2 "Миражи", без последнего четверостишья.
3 "Мечтатели и избранник"
("Вторая книга отражений").
4 Имеются в виду статьи: "Траурный
эстетизм. И. Ф. Анненский - критик" Г. И. Чулкова,
"И. Ф. Анненский - лирик"
М. А. Волошина, "О поэзии
Иннокентия Анненского" Вяч. И. Иванова.
5 "Бальмонт - лирик" ("Книга
отражений").
6 Неточные цитаты из стихотворения
"Человек".
7 "Бальмонт - лирик" ("Книга
отражений").
8 "Мечтатели и избранник"
("Вторая книга отражений").
9 Из стихотворения "Невозможно".
10 "Белый экстаз"
("Вторая книга отражений").
![]()
![]()
При использовании материалов собрания
просьба соблюдать
приличия
© М. А. Выграненко, 2005-2021
Mail: vygranenko@mail.ru;
naumpri@gmail.com