|
|
|
| Начало \ Издания \ Иннокентий Анненский и русская культура XX века, 1994 | |
|
Открытие: 1.06.2009 Обновление: 10.11.2024 |
||
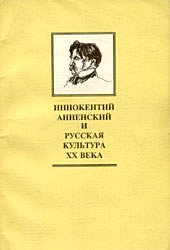 |
Иннокентий Анненский и русская культура XX века Сборник научных трудов С.-Петербург: АО "Арсис", 1996 Мягкий переплет, 156 с.; |
Издание осуществлено
при участии и помощи Общества по установлению связей между Германией и
Россией
©
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, составление, 1996 |
|
Составление и научная редакция Г. Т. Савельевой. Оформление В. В. Уржумцева. В оформлении использован рисунок А. Бенуа (1909). полный текст PDF 5.0 MB
На конференции
выступала также Л. С. Гейро, как об этом сообщается в статье (с. 107): А. И. Червяков сообщил (УКР I, с. 112), что не опубликован доклад Ю. А. Арпишкина 'Иннокентий Анненский как театральный критик', посвящённый анализу полемики вокруг переводческого соперничества Анненского и Д. С. Мережковского.
В. Гитин
Кейс Верхейл
Д. Бобышев
Р. Д. Тименчик
Томас Венцлова
А. Е. Барзах
Г. М. Пономарева
И. Т. Ашимбаева
Виктор Кривулин
А. В. Лавров
А. Пурин
А. Кушнер
Ю. Е. Галанина
Г. Т. Савельева
Г. Т. САВЕЛЬЕВА
ДВА МИФА О ЦАРСКОМ СЕЛЕ 143 Царское Село, этот великолепный образец дворцово-паркового искусства, изначально было основано как некий феномен - чудо цивилизации и техники, где все начиналось впервые: и первая железная дорога, и первая электростанция, и первая телефонная линия... Но для нас это, в первую очередь, 'город муз', 'литературный символ', как назовет Царское Село Эрих Федорович Голлербах в книге, посвященной памяти И. Ф. Анненского1. В самом восприятии Царского Села и заложены два мифа о нем как о городе царей и 'царских чудес' и как о городе поэтов и литературных чудес. Среди стихотворений, посвященных И. Ф. Анненским Царскому Селу, есть одно с необычным названием - 'Л. И. Микулич'2:
Там на портретах
строги лица,
Там воды зыблются
светло В своей известной статье о Пушкине И. Анненский назвал Царское Село 'парком воспоминаний', благодаря которому 'в душе Пушкина должна была впервые развиться наклонность к поэтической форме воспоминаний, а Пушкин и позже всегда особенно любил этот душевный настрой'3 . Пушкинские 'Воспоминания в Царском Селе' (1814), таким образом, были рождены самим жанром садово-паркового искусства, изначально основанным на 'поэтике воспоминаний'. Об этом пишет в книге 'Поэзия садов' Д. С. Лихачев, отмечая все возрастающую роль слова в парковом искусстве конца XVIII - начала XIX века4. 144 Стихотворение Анненского также можно было бы назвать 'Воспоминанием в Царском Селе', тем более что, как и Пушкин в 1814 году, он в момент создания стихотворения находился в Царском Селе. Именно это обстоятельство подчеркивает одно яркое и необычное свойство стихотворения, а именно то, что начинается оно указательным местоимением 'там', которое анафорически повторяется в 8 из 16 строк стихотворения. Снабженное сверхсистемным ударением, оно создает не только своеобразный музыкальный ритм, но и некую эпическую дистанцию между автором и предметом описания (или лучше сказать - созерцания). Характерно, что это 'там' существует и у Пушкина - в лицейских 'Воспоминаниях в Царском Селе' 1814 года, однако в его одноименном стихотворении 1829 года, где Пушкину не нужно было искусственно создавать дистанцию (она уже существовала и не менее эпическая) 'там' исчезает. Важность дейктических средств языка, которые локализуют пространственно-временные отношения и указывают на степень какого-либо качества, свойства предмета или явления, уже отмечена в работе А. Е. Барзаха 'Соучастие в безмолвии'5. Однако им рассмотрены случаи использования Анненским тех средств, которые особо маркируют и подчеркивают значение 'мгновенности', важности 'поэтического мига'. Не менее характерно для поэта и обращение к иным вариантам дейксиса, обозначающим другой временной полюс - вечность. К числу таких средств и относится слово там, которое вводит тему недостижимости далекого идеально-прекрасного мира. Это совершенно укладывается в рамки романтического мировоззрения, если вспомнить знаменитое гетевское 'Туда, туда...' из Песни Миньоны ('Годы учения Вильгельма Мейстера'), подхваченное немецкими романтиками. Сама по себе ситуация использования слова там для Анненского совершенно не является уникальной. В сборнике стихотворений, который вышел в Большой серии Библиотеки поэта6, это слово встречается 68 раз (в 33 стихотворениях), причем 39 из них - в начале строки, а в одном из стихотворений там даже вынесено в заглавие (есть также стихотворение, одна из строк которого начинается словами: 'Туда, к надлунным очертаньям...' - 'Парки - бабье лепетанье').
Показать здесь все варианты использования не представляется возможным.
Однако, как правило,
там у Анненского отнюдь не указывает на
местоположение объекта или субъекта поэтического текста. Ср.: 'Там
Бесконечность - только миг...' ( 145 И в стихотворении 'Л. И. Микулич' слово 'там' создает атмосферу прекрасного царскосельского мира, а также вводит систему со- и противопоставлений образов, соединенных в пары, подчеркивая их параллелизм на семантическом уровне.
Там на портретах
строги лица, Такова первая пара образов. Что может быть определеннее, конкретнее лиц на портретах и, напротив, неопределеннее - седого тонкого тумана, от которого веет тайной первообраза, первотворения, чуда первозданности, библейским духом над водами. Аллитерация 'т' в сочетании с сонорными и ассонансом 'а' подчеркивает соответствие романтически недостижимого 'там' и тонкого тумана. На лексико-грамматическом уровне краткие прилагательные, образующие эпитеты, не только придают, образу своеобразие и свежесть, но и создают впечатление архаизма, отсылающего нас к высокому стилю 'осьмнадцатого' столетия. Особенно - 'там на портретах строги лица', с возможной реминисценцией из Пушкина: 'Царей портреты на стенах' (2 глава 'Евгения Онегина'). В стихотворении Анненского не упоминается 'барочная' и 'ампирная' красота царскосельских дворцов, она как бы растворена в великолепии садов, что являет собой единый поэтический образ 'великолепья небылицы' (здесь также возможна реминисценция из стихотворения Пушкина 'В начале жизни школу помню я...': 'Великолепный мрак чужого сада...'):
Великолепье небылицы В этом образе нет ничего материального, конкретного. Вообще, отсутствует сама стихия камня, которая в 'петербургском мифе' сопрягается с темой 'злого чуда': 'только камни нам дал чародей...' ('Петербург'). Ничего подобного нет здесь. Происходит чудо, которое так важно для Анненского: статичность пейзажа преодолевается репрессией, заложенной в образе, его одухотворенностью. Первая строфа стихотворения и посвящена чуду превращения, метаморфозы. Знаменитая 'молочница' - Перетта, пришедшая в царскосельский сад из басни, важной своим нравоучением, становится и лирической героиней стихотворения, как и пушкинская дева ('Царскосельская статуя'), и царскосельским божеством7:
Там нимфа с таицкой водой. В этом 'не разлиться' у Анненского воплощена мечта романтиков об остановленном мгновении, которое длится вечность. Но нам хочется обратить внимание на несколько необычное (если не парадоксальное) сочетание античного нимфа с краеведческим таицкая вода. Здесь, возможно, скрыто одно очень личное для Анненского переживание пушкинской темы. И здесь необходимо вспомнить семейное предание Анненских о 146 том, что бабушка Иннокентия Федоровича была урожденной Ганнибал, а именно - дочерью одного из сыновей 'арапа Петра Великого'. На существование предания указывают два источника: французский (из семьи сестры Анненского, которая вышла замуж за француза Жозефа Деникера) и русский (от близкого друга старшего брата Иннокентия Федоровича, Николая, - С. Я. Елпатьевского)8. Учитывая близость братьев, невозможно предположить, что Анненский мог не знать этого обстоятельства. Скорее, как человек скромный и деликатный, публично заявлять об этом он не желал. Другое дело - поэзия. Нас же интересует следующий факт: село Малые Тайцы, связанное с протекающими Таицкими ключами, воды которых питали не только вышеупомянутый фонтан, но и все царскосельские пруды, принадлежало некогда Абраму Петровичу Ганнибалу9. Вряд ли Анненский всерьез занимался генеалогическими изысканиями, а вот краеведческий интерес был ему не чужд. Так, в своей статье о Пушкине он отмечает, что няня его 'была взята из наших же мест... из-под Суйды, недалеко от Гатчины'10. Таким образом, Анненского с Пушкиным, возможно, связывает не только единый генеалогический источник, но и реальный - таицкий, питающий не только парковые затеи, но и цветы царскосельской поэзии. 'Девушка с кувшином' у Анненского становится одним из genio loci* Царского Села. Два других, образующих новую коррелятивную пару, названы в следующем двустишии, которое является итогом первой строфы:
Там стала лебедем Фелица * Покровитель места (лат). - Ред. Трудно представить себе нечто более оппозиционное, нежели поэт и царь, но здесь, в волшебном пространстве стиха, и там, в чудесном мире метаморфоз, где даже императрица может стать поэтом, эта оппозиция отчасти снимается - поэт и царь становятся равнозначны, но все же не равновелики, поскольку единственно реальное имя в этом стихотворении это имя Пушкина, тоже ставшее царскосельским мифом. Великодержавная хозяйка Царского Села присутствует в стихотворении и как героиня оды Державина ('Фелица'), и как автор 'Сказки о царевиче Хлоре', и как царскосельский символ - лебедь, который отсылает нас к античному мифу, что создает некий эротический оттенок, не чуждый образу самой императрицы. Возможны также и реминисценции из поэзии Пушкина или Жуковского. Кроме того, образ лебедя это метафора-загадка, не называющая, но подразумевающая высокое понятие - поэт. Эту же метафору использует позднее и Гумилев, назвав самого Анненского 'последним из царскосельских лебедей' ('Памяти Анненского'). Безусловно, лебедя-Фелицу также можно назвать genio loci, как и саму императрицу Екатерину, но уже не в поэтическом мифе, а в 'царском'. Соперничество двух мифов находит свое выражение и в истории царскосельских гениев места. Как явствует из письма А. И. Тургенева князю П. А. Вяземскому от 5 августа 1819 года, преемником Екатерины становится Александр I. Именно его бюст находился в Лицейском саду на по- 147 стаменте из дерна с посвящением 'Genio loci'11. Трудно сказать, когда и куда исчез этот бюст (возможно, причиной тому был сильный пожар в Лицее в 1820 году), но оставшуюся часть памятника лицейское предание прочно связало с именем Пушкина12. Это очень важный момент: реальный царскосельский миф одержал победу над исторической реальностью, а миф поэтический - над мифом царским. И. Ф. Анненский фиксирует создание легенды так: 'Имя Пушкина как-то само собой приурочилось потом к этому местному памятнику, и еще лицеисты окружали свой палладиум благоговением'13. Эти слова написаны Анненским на следующий день после того, как в Лицейском саду был заложен первый камень памятника Пушкину (к его открытию был причастен и сам Иннокентий Федорович), который появляется в двух его стихотворениях (в рассматриваемом нами и в стихотворении 'Бронзовый поэт'). В обоих стихотворениях поэт делает акцент на превращении Пушкина в бронзу, в котором воплощена не только тема увековеченной славы, но и античный миф о людях бронзового века. Однако в отличие от стихотворения 'Бронзовый поэт', где создается ситуация преодоления статичности (оживление статуи), в стихотворении 'Л. И. Микулич' происходит обратное: живой Пушкин как бы застывает, становится бронзой, не только приобретая статичность, но и превращаясь в миф. Время тоже останавливается, переходит в иное качество - вечность. Литературный миф создан. Остается дополнить его и развить тему гармонии поэзии с миром природы:
Там воды зыблются светло 'Царствующие березы' - не олицетворение, это персонификация. Вот кто по-настоящему царствует в мире Анненского. Горизонталь зыблющихся вод и вертикаль царствующих берез создают своеобразную статику пейзажа, картину абсолютной божественной гармонии окружающего мира, мира одухотворенной природы. Но вот настоящее время в стихотворении сменяется временем прошедшим:
Там были розы, были розы, Заклинательный повтор в первой строке создает впечатление императива. В этих розах, унесенных потоком, заключено так много: это и реальные розы, некогда цветшие на царицыном Розовом поле (о котором писал Пушкин в вариантах 'Евгения Онегина'), и 'розовость' воспоминаний, о чем писал сам Анненский14, и цветы классической поэзии конца XVIII - начала XIX века. Вообще цветы - особая тема в поэзии Анненского, и ее продолжает следующее двустишие:
Там все,
что навсегда ушло, Конечно же, на рубеже XIX - XX столетий с его декадансом и импрессионизмом поэту, художнику была ближе сирень15. У Анненского си- 148 рень, как правило, связана с переходным состоянием полусна-полуяви, с этой точки зрения характерны сами названия стихотворении, где появляется сирень: 'Дремотность', 'Призраки', 'TRÄUMEREI'*. * Грёзы (нем.) - Ред. Для понимания образа в этом стихотворении необходимо вспомнить две отмеченные Анненским пушкинские ассоциации: процесса творчества - 'или с грезами первосония... или с лесными зарослями где-нибудь у воды', а темы воспоминаний - с 'сознанием безвозвратности пережитого'16. 'Грезы сиреней' здесь становятся символом и самого творческого процесса, и 'безвозвратности воспоминаний', всего, 'что навсегда ушло'... Пейзажная лирика Иннокентия Федоровича, как правило, трагична, но здесь в волшебном пространстве царскосельского мира и стиха этого нет. И 'струя резеды в темном вагоне' (складень 'Добродетель', 2), несущая щемящую волну тоски, здесь лишь 'нежно веет резедой', внося лишь легкий, чуть уловимый аромат грусти. Смена грамматических времен в стихотворении демонстрирует увеличение временной дистанции между лирическим субъектом и объектом стихотворения. В начале роль глаголов (сказуемых) играют краткие прилагательные (строги, тонок). Затем появляются глаголы: веет (настоящее время) и не разлиться (инфинитив). Но времени как бы нет. Время глагольных форм начинает чередоваться: перфект (стала), настоящее время (зыблются, царствуют), дважды прошедшее неопределенное (были) и, наконец, не просто перфект, но скорее - плюсквамперфект (давно забытое предпрошедшее время): 'все, что навсегда ушло...'. Создается парадоксальная ситуация: чем ближе автор к настоящему времени (точнее, к настоящему моменту), тем больше в тексте глагольных форм прошедшего времени, и таким образом тем дальше настоящее время мифа, заданное в начале стихотворения мифологическим 'там'. Переход от прошедшего времени осуществляется отточиями. И здесь, за чертой, откуда смотрим мы вместе с Анненским на 'навсегда ушедшее', появляется новое время. Две последние строки стихотворения (вместе с лирическими героями) совершают дальнейшее продвижение по временной оси - вперед, соединяли императив с будущим временем:
Скажите: 'Царское Село' - Царскосельская природа, рождающая поэзию и сама ею рождаемая, - мифологема Царского Села. В отличие от петербургского мифа ('Петербург'):
Ни кремлей,
ни чудес, ни святынь, здесь, в царскосельском мифе, есть все: и чудеса, и святыни, и миражи, и улыбка, и слезы, 'и божество, и вдохновенье'... Таково Царское Село Анненского, и для следующего поколения он сам входит в 'Элизиум теней', становится одним из genio loci Царского 149 Села. Так Николай Николаевич Пунин пишет: 'Из тех, кто его знал, ни один уже не войдет в аллеи Царскосельского парка свободным от тоски, меланхолии или хотя бы обычности воспоминания о нем... В нежно дрожащем просторе озера, в ветвях, чернеющих перед фронтонами Екатерининского дворца, в белом мраморе замерзающих статуй живет... воспоминание о нем...'17. Среди тех, кто успел встретиться с Анненским18 и признать его 'великим поэтом'19, - Осип Эмильевич Мандельштам, который разработал свою версию царскосельского мифа в стихотворении 'Царское Село'20:
Поедем в Царское Село!
Казармы, парки и дворцы,
Одноэтажные дома,
Свист паровоза... Едет князь.
И возвращается домой - У Мандельштама мы не найдем ни одного намека на 'город муз'. Это военно-парадное Царское Село, вернее, его картинки (сродни популярной игре в Живые картины), которые не только кинематографичны, но даже 'озвучены'. Вообще, звук - очень важный компонент образов Мандельштама, в отличие от Анненского, для которого более значимым является запах, аромат. Каждая картинка, словно цветной слайд, отщелкивается опоясывающей рифмой или повтором первой и последней строк каждого пятистишия. Картинок тоже пять: уланы; 'казармы, парки и дворцы'; 'однодумы-генералы' в одноэтажных особняках; князь со свитой и, наконец, 'карета с мощами фрейлины седой'. Лучшим комментарием к стихотворению являются строки самого Мандельштама из 'Шума времени', написанные о Павловске, где он провел 150 свое детство: 'Круглый год на зимней даче [мы] жили в старушечьем городе, в российском полу-Версале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов... и взяточников, скопивших на дачу-особняк'21. Характерно, что в стихотворении Мандельштама нет ни божества (хотя есть мощи), ни природы. Есть декорация. Бутафорски-игрушечный городок (как не вспомнить ахматовских лошадок из стихотворения 'В Царском Селе'), где на деревьях не снег, а 'клочья ваты', где игрушечные особняки и игрушечные паровозики, игрушечная свита в стеклянном павильоне. Это не 'царство берез' Анненского, а 'царство этикета', если еще не ушедшее, то уходящее в мифологическую даль времен. Стихотворение Мандельштама, написанное в форме французского рондо, - приглашение к прогулке, к недальнему путешествию, в которое поэт зовет своего друга Георгия Иванова (которому оно и посвящено). Полушутливое-полусерьезное стихотворение дышит пафосом 'туризма'. Об этом пишет Н. А. Струве, не только намечая таким образом одну из тем в творчестве Мандельштама, но и называя его поэтом 'новой цивилизации' и 'американизация жизни'22. Действительно, читая стихотворения О. Мандельштама, мы можем посетить и 'Казино', и 'Американ бар', и вслед за двадцатилетней американкой поспешить на Акрополь, 'чтоб сахар мраморный толочь', и сожалеть вместе с ней, что 'Людовик больше не на троне...' ('Американка'). Так и стихотворение 'Царское Село' - не паломничество к святым местам, которое стало следствием поэзии Анненского (о чем пишет Э. Ф. Голлербах23), а путешествие. Поездка в своеобразное 'Царское-land' - в основе стихотворения Мандельштама. 'Искусное и тактичное смешение архаизмов высокого стиля... с обыденными тривиальными выражениями', отмеченное Н. Струве в стихотворении 'Американ бар', существует и здесь, например: мощи, тайный страх и 'здорово молодцы', пьянка (или пьяны). Это соединение, по мнению Н. Струве, создает 'квазимифическое значение, предохраненное юмором' (курсив мой. - Г. С.)24. Таким образом, можно говорить о том, что царский вариант мифа разработан Мандельштамом в лирической форме, но все же в ироническом ключе. А именно сочетание мифа и лирики дает возможность для создания ситуации 'вечного мгновения', которое, по словам Н. Струве, 'как никто умел выбрать...' Мандельштам25. 'Царское Село' Мандельштама было написано в 1912 году, а стихотворение Анненского опубликовано в 1923-м, но можно сделать предположение, что Осип Эмильевич знал стихотворение Анненского и в своем литературном опыте отталкивался от версии Иннокентия Федоровича. У нас нет возможности подробно показать сходство поэтики двух стихотворений. Укажем лишь на некоторые, на наш взгляд, не случайные совпадения: во-первых, метрической системы стихотворений - в плавных переходах от четырехстопного ямба к пэону 4 и пэону 2 в обоих стихотворениях (кстати, оба пэона особо значимые для Анненского размеры, если вспомнить сонет 'Пэон второй - пэон четвертый'), можно указать также на чередование мужских и женских рифм. Во-вторых, на лексико-грамматическом уровне достаточно ярко звучит сходство таких строк: 'Там на портретах строги лица' (Анненский) И 'Там улыбаются уланы' 151 (Мандельштам) или 'Там нимфа с таицкой водой' (Анненский) и 'Там улыбаются мещанки' (Мандельштам, варианты), далее: 'И гордо царствуют березы', 'И бронзой Пушкин молодой' (Анненский) и 'И возвращаются домой', 'И саблю волоча сердито', 'И грянут здравия раскаты' (Мандельштам). К этому можно прибавить соответствие двух императивов, заданных в стихотворениях: 'Скажите: "Царское Село"' (Анненский) и 'Поедем в Царское Село' (Мандельштам). Безусловно, если Анненскому, как царскоселу, достаточно было только произнести заветные слова 'Царское Село', то Мандельштаму необходимо было туда поехать26. Итак, два стихотворения, две улыбки... Одна - 'сквозь слезы', другая - обаятельная, добрая, чуть насмешливая. И два мифа, которые когда-то соединял в своем творчестве Пушкин и которые разделили поэты 'серебряного века'. Нужно сказать, что оба этих мифа объединяются в третьем. Поскольку Царское Село не только 'город муз' и 'город царей', но еще ' центр просвещения, началом которого был пушкинский Лицей, открытый во дворцовом флигеле под эгидой императора Александра. И не случайно в середине нашего века существовал проект, душой которого был Сергей Иванович Вавилов, сделать этот город академическим и научным центром27. Проект этот так и не осуществился, но научный, педагогический феномен Царского Села тоже стал мифом, в который входит и имя Иннокентия Федоровича Анненского и который был не только прекрасным поэтом, но и преподавателем, педагогом, проповедником новой поэзии... И которого многие замечательные представители 1910-х годов на называли своим гимназическим или же литературным учителем. См. также статью в собрании: Савельева Г. Т. "'Петербургский миф' Иннокентия Анненского". 1 Голлербах Э. Город муз. Царское Село в поэзии. СПб.. 1993. С. 44. 2 Название стихотворения является одновременно и посвящением. Автографы находятся е ЦГАЛИ и в ИРЛИ - в альбоме царскосельской писательницы Л. И. Микулич (Веселитской). с пометой Ц. С. (Царское Село) и датой 10 апреля 1906 года (РО ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), ф. 44, ? 22. л. 63). В альбомном тексте есть разночтение, 'горды лица' вместо 'строги лица'. 3 Анненский И. Ф. Пушкин и Царское Село // КО, С 309. 4 Лихачев Д. С. Поэзия садов. Л., 1982. С 327, 336. 5 См. в наст. изд. 6 Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л. 1990. 7 С темой "молочницы" связана и настоящая царскосельская легенда о том, что молочница Сарра (по имени мызы Саари, находившейся здесь до основания царской резиденции) угостила молоком самого Петра Великого, который в память об этом посадил дубовую аллею, находившуюся в старой голландской части парка (Лихачев Д. С. Поэзия садов. С. 303). 8 Петрова М., Самойлов Д. Загадка Ганнибалова древа // Вопросы литературы. 1988. ? 2. С. 187-188. 9 Телетова Н. Ганнибалы - предки Пушкина // Белые ночи. Л. 1978. С. 282, 288. 10 КО, с. 321. 11 "Я люблю Царское Село... в отсутствие хозяев: прелести его те же, ажитации меньше, гуляют, не оглядываясь, и слушают того, кто говорит, без рассеяния. Все в порядке и все на месте, и никто не приносит себя на жертву genio loci. Так сделано посвящение дернового памятника, украшенного бюстом государя в лицейском (будущем) саду. И забавы впредь будут напоминать питомцам того, которого сердце желало бы дать им хорошее воспитание" (Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1812-1819 // Остафьевский архив князей Вяземских. СПб. 1899. Т. 1. С. 280. 12 Эта версия была популярна в кругу лицеистов поздних выпусков. Об этом пишет А. Н. Яхонтов (Яхонтов A. Н. Воспоминания царскосельского лицеиста 1832 - 1838 годов // Русская старина. 1888. 152
Т. 10. С. 105), а также воспитанник 23-го курса А. М. Смирнов (Смирнов
А.
М. Плита в память А. С. Пушкина // Русская старина. 1873. Т 10. С. 597). 13 КО, с. 321. 14 КО, с. 311. 15 Ср. стихотворение О. Мандельштама 'Импрессионизм': 'Художник нам изобразил // Глубокий обморок сирени...', или более частный сюжет у Н. Гумилева: 'Из букета целого сирени // Мне досталась лишь одна сирень...' 16 КО, с. 310-311. 17 Пунин Н. Н. Проблема жизни в поэзии И. Анненского // Аполлон. 1914. ? 10. С. 47. 18 В июне 1909 года О. Мандельштам жил в Царском Селе. Вероятно, к этому времени относится эпизод, описанный Н. Я. Мандельштам: 'К Анненскому он прикатил на велосипеде и считал это мальчишеством и хамством' (Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Paris. 1986. С. 94). 19 'Великим поэтом' Мандельштам называл Анненского в разговоре с С. П. Каблуковым (О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С. П. Каблукова // Камень. Л., 1990. С. 241). 20 Стихотворение цитируем в первом варианте (до исправления, внесенного после не очень настойчивого замечания Э. Ф. Голлербаха о том, что уланы никогда не стояли в Царском Селе, - Голлербах Э. Ф. Город муз. С. 173) по изд: Мандельштам О. Камень. С. 35. Нам представляется этот вариант как более тонким и удачным, так и более показательным. 21 Мандельштам О. Соч.: 8 2-х т. М., 1990. Т. 2. С. 7. 22 Струве Н. Осип Мандельштам. London. 1990. С. 16-17. 23 Голлербах Э. Ф. Город муз. С. 133. 24 Струве Н. Осип Мандельштам. С. 17. 25 Там же. С. 19. 26 С этой точки зрения 'там' у Мандельштама имеет более конкретный характер, указывая на реально существующую дистанцию. 27 Сообщила Л. М. Солдатова.
|
||
| Начало \ Издания \ Иннокентий Анненский и русская культура XX века, 1994 |
![]()
При использовании материалов собрания просьба соблюдать
приличия
© М. А. Выграненко, 2005-2024
Mail: vygranenko@mail.ru;
naumpri@gmail.com