Обновление: 05.08.2024
Л. Я.
Гинзбург
О лирике
![]()
из книги
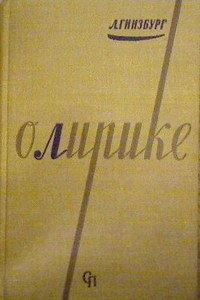


Вещный
мир
глава
Поэтика ассоциаций
фрагменты главы
Фрагмент
Источник текста:
Гинзбург
Л. Я.
О лирике. М.: "Интрада", 1997. С.
288-325.
Подготовка текста С. В. Путилова,
предисловие А. С. Кушнера.
В собрании имеется два издания, подаренные Л. Я. Гинзбург и подписанные дарителями:
Федоров А. В. Иннокентий Анненский. Личность и творчество. Ленинград: "Художественная литература", 1984. Л. Я. Гинзбург рецензировала эту книгу.
Иннокентий Анненский. Избранное / Составление, вступительная статья и комментарии И. И. Подольской. Москва: "Правда", 1987.
Значение исследования Л. Я. Гинзбург даётся в: Подворная А. В. Особенности поэтической онтологии И. Анненского. АКД. PDF
Лидия Яковлевна Гинзбург (1902-1990) - филолог, эссеист, прозаик - принадлежала ко второму поколению опоязовцев - так называемой формальной школе, прославленной именами Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, Р. Якобсона и др. Поступила учиться в Институт Истории Искусств в 1922 г. и закончила его в 1926 г. Блистательно начав свою исследовательскую карьеру (статьи 'Вяземский-литератор', 1926; 'Из литературной истории Бенедиктова (Белинский и Бенедиктов)', 1927; 'Опыт философской лирики (Веневитинов)', 1929; 'Пушкин и Бенедиктов', 1936; 'К постановке проблемы реализма в пушкинской литературе', 1936), Лидия Гинзбург затем на долгие годы была вытеснена из литературного процесса. Своими книгами о Лермонтове (1940) и Герцене (1957) она была недовольна: жанр монографии, чуждый ей, но поощряемый официальным литературоведением, был связан с неизбежными уступками идеологическим требованиям и носил, по ее мнению, заметную печать вынужденности и подневольности.
Книга 'О лирике' (первое издание - 1964) создавалась уже в другое время. Собственно, это была первая книга, написанная автором свободно, хотя и в нее редакция не допустила главу о Мандельштаме. Нынешнее переиздание воспроизводит второе издание книги (1974), куда эта глава уже вошла.А. Кушнер. (из предисловия к изданию-источнику)
Фото Р. Хруща, май 1990 г.
Л. Я.
Гинзбург была в числе составителей кн.:
Осип Мандельштам. Камень. Л.: "Наука",
1990 ("Литературные памятники"), для
которой написала одноименную статью.
Л. Я.
Гинзбург - автор книг:
"О
психологической прозе",
"О литературном герое",
"Литература в
поисках реальности",
"Человек за
письменным столом",
"Записки
блокадного человека". Близкая
знакомая
А. Ахматовой,
автор воспоминаний о ней.
Существует критическое
отношение к главе "Вещный мир", см.:
Кокотов А. "Не
только об Анненском",
прим. 10.
![]()
288
В творчестве Иннокентия Анненского есть черты, сближающие его с русской психологической литературой XIX века, и есть черты, как-то предвосхищающие дальнейшее развитие русской лирики. Недаром из деятелей символистического направления Анненский - тот поэт, кроме Блока, к которому сейчас в наибольшей мере сохранился живой читательский интерес.
Анненский родился в 1856 году*. Он значительно старше самых старших русских символистов - Сологуба, Мережковского, Бальмонта. Он старше Брюсова на семнадцать лет и Блока на двадцать четыре года. В 1900-х годах Анненский должен был бы быть патриархом движения; вместо того он был начинающим поэтом. Его первый сборник 'Тихие песни' вышел в 1904 году; и в 1906 году Блок, как признанный поэт, отметил сочувственной рецензией дебютанта, скрывшегося под 'сомнительным псевдонимом' Ник. Т-о1. 'Кипарисовый ларец' - лучшее, что создал Анненский, - появился уже посмертно, в 1910 году. И тогда Блок написал об этой книге сыну Анненского В. Кривичу: 'Невероятная близость переживаний, объясняющая мне многое о самом себе'2.
* Год рождения - 1855, см.: А. Орлов. "Юношеская биография Иннокентия Анненского" (1985).
Ко времени первых выступлений Анненского-лирика поэзия его сверстников и младших современников - Минского, Мережковского - давно уже была неактуальна, творчество следующего поколения успело достичь апогея и переживало кризис. Своеобразные хронологические соотношения способствовали особому положению Анненского в литературном движении его времени. Он признавал, в статьях даже декларировал свою близость к декадентству и символизму. Но при этом у Анненского отсутствуют всякие организационные связи и даже сколько-нибудь близкие личные отношения с представителями 'новой поэзии'. Так складывалась позиция стоящего в стороне от групповых обязательств
1 См.: Александр Блок. Собрание
сочинений, т. 5. М.-Л.,
1962, с. 619-621.
2 Там же, т. 8, с.
309. См. страницу собрания "И.
Ф. Анненский и А. А. Блок в письмах".
289
и групповых расчетов, свободно отбирающего нужное ему для его поэтических целей и отметающего ненужное.
Творческая судьба Анненского сложилась парадоксально, и это наложило свою печать на его поэтическую систему, очень целостную и самобытную, но возникшую из противоречивых и сложных напластований.
Много напластований обнаруживается даже в пределах небольшого по объёму 'Кипарисового ларца': русская лирическая классика1, русский романс, французский и русский символизм, эпохальное эстетство и стиховое экспериментаторство ('Перебой ритма', 'Кэк-уок на цимбалах', 'Колокольчики'), и в то же время воздействия психологической прозы XIX века.
Уже в конце 70-х годов Анненский пристально всматривается в поэзию Эдгара По и Бодлера, а в то же время он захвачен народническими настроениями, господствовавшими в доме его старшего брата, известного публициста Николая Федоровича. Для этого импрессионистически мыслящего человека русский реализм второй половины века - самая злободневная современность. Анненскому было около двадцати лет, когда начала печататься 'Анна Каренина', а в статье 'Умирающий Тургенев' он как очевидец вспоминает похороны писателя.
Критические и педагогические статьи Анненского свидетельствуют о том, насколько родственной стихией была для него реалистическая проза. Анненский любил и тонко понимал русский реализм. Замечательна в этом отношении статья о драме Писемского 'Горькая судьбина', - статья, в которой Анненский демократически трактует проблему соотношения народа и дворянской интеллигенции. Статья эта написана не вообще о пьесе Писемского, но именно о Писемском-реалисте, о характере его реализма2. 'Термин "социальный" приложим к "Горькой судьбине" по существу, потому что ее драмы, ярко вспыхивающие и уже закопченные, стертые или заглушенные, все развились не на почве личных свойств, не на почве сложной душевной жизни, не из столкновения одной воли с другой, не из рокового развития страсти, гордо идущей против силы вещей, а на почве сложного и глубоко лежащего жизненного уклада, который своеобразно искалечил, обезличил и придавил ряд человеческих существова-
1 О преображении в поэзии Анненского
традиционной метафоры см.: V. Setchkarev. Studies in
the Life and Work of Innokentij Annenskij. Hague, 1963, p. 125-126 и др.
2 Ср. также статью Анненского
'Гончаров
и его "Обломов"' (РШ, 1892, ?
4).
290
ний'1. Исходя из этих предпосылок, Анненский с подлинным социальным пафосом и превосходным чутьем филолога анализирует художественную ткань произведения - и в первую очередь психологический смысл поведения персонажей. Именно этот момент привлекает внимание Анненского; в статьях о Достоевском, Писемском, Толстом, Горьком, Чехове он восхищенно и жадно перебирает звенья изображенных ими психологических процессов.
Во второй половине XIX века психологический метод не только господствовал в литературе, но проникал в историографию и в историю культуры, в искусствознание и лингвистику. Напряженным интересом к психологизму - Анненский человек XIX века. Но конец XIX и начало XX века ознаменовались новыми веяниями, захватившими Анненского вместе с его младшими современниками. В сознании Анненского символизм, вообще 'модернизм' встретился с глубоко усвоенным опытом социально-психологической литературы. В поэтическом творчестве Анненского это скрещение принесло своеобразный плод - метод, который скорее всего можно назвать психологическим символизмом.
В стихах Анненского встречаются иногда формулы мистического восприятия жизни2. Но у Анненского, как у каждого подлинного поэта, есть самое главное - ему именно принадлежащее и конструктивное. Для Анненского это - связь между душевными процессами и явлениями внешнего мира.
В поэзии Анненского это соотношение предстает, разумеется, не в той социально-реалистической трактовке, которую он с таким восторженным пониманием раскрывает в произведениях Толстого или Писемского. Сложные аналогии между стихами Анненского и современной ему психологической прозой - это особая тема, в которую нет здесь возможности углубляться. Уже делались попытки установить связь между творчеством Анненского и Чехова3.
1 КО-1, с. 95.
2 Наряду с этим есть у
Анненского и враждебные высказывания о
мистицизме. Например: 'Мистицизм,
закрывавший от людей солнце и стиравший
краски, был неумолим по отношению к
нашей поэзии: в его черный синодик
записаны лучшие русские имена:
Жуковских, Гоголей, Толстых и
Достоевских...' (А. Н. Майков и
педагогическое значение его поэзии. - РШ,
1898, ? 3, с. 55-56).
3 См.: G. Ivask. Annenskij und Cechov (Zeitschrift fur slavische
Philologie, Heidelberg, 1959, B. XXVII), Ср.: D. S. Mirsky. Contemporary
Russian Literature (1881-1925). New York, 1926. p. 203.
В 'Трилистник траурный' входит сонет 'Перед панихидой',
291
характерный для 'новой поэзии', но написанный рукой, не раз листавшей страницы 'Смерти Ивана Ильича':
"Ах!
Что мертвец! Но дочь, вдова..."
Слова, слова, слова...
Толстовские коллизии, понятно, решаются у Aнненского совсем не толстовским методом.
В статье 'Бальмонт-лирик' Анненский говорит о методе современного искусства, не в целом, но какими-то своими чертами ему близком. Он утверждает, что 'тяжелая романтическая арматура', годившаяся 'для Манфреда и трагического Наполеона', малопригодна для современного искусства, где 'мелькает я, которое хотело бы стать целым миром, раствориться, разлиться в нем', а вместо того замучено одиночеством; оно живет среди природы, 'кем-то больно и бесцельно сцепленной с его существованием'1.
Сцепление человека с природой и, шире, с окружающим миром - это исходная мысль всей поэтической системы Анненского, определяющая ее психологический символизм и ее предметную конкретность, определяющая в этой системе самое строение поэтического образа. Почему эта связь причиняет боль? Ключом к слову больно служит слово бесцельно.
Анненский тонко различал личность 'новой поэзии' и личность романтическую. В незавершенном наброске предисловия к 'Тихим песням' он писал, что 'целая бездна отделяет индивидуализм новой поэзии от лиризма Байрона и романтизм от эготизма', что я новой поэзии - это совсем 'не то я, которое противопоставляло себя целому миру, будто бы его не понявшему...'.3 Утверждение безусловной ценности собственной личности и питающих ее сверхличных ценностей было неизменным источником романтического пафоса и романтического трагизма. Тогда как изображенный Анненским современный конфликт разыгрывается уже в сознании, не верящем даже в собственную ценность. Только творческое усилие способно теперь овладеть
1 КО-1,
с. 185. О специфическом для Анненского
соотношении человека с одушевляемым им
миром неодушевленной природы говорит
А.
В. Федоров в
статье, предпосланной его
ценному изданию стихотворных
произведений Анненского. См.: СиТ 59, с.
34-35. О 'наделенных чувством страдания'
вещах в поэзии Анненского писал Ал. Булдеев в статье 'И. Ф. Анненский как
поэт' ("Жатва", 1912, кн. III, с. 207).
2 'Что такое
поэзия?' Посмертная статья Иннокентия Анненского. - А. 1911. ? 6. С. 56.
292
несомненной для поэта красотой мира. Но Анненский слишком русский интеллигент для того, чтобы "самодовлеющий эстетический акт мог принести ему удовлетворение. Ему нужен смысл жизни, нравственное ее оправдание. '...Я потерял бога - пишет Анненский в 1904 году, - и беспокойно, почти безнадежно ищу оправдания для того, что мне кажется справедливым и прекрасным'1. Нравственное оправдание он ищет вне религии и вне революции. Сквозь лирику Анненского проходит человек с надорванной волей и развитой рефлексией - тем самым преемник фаланги 'лишних людей' и современник чеховского интеллигента, не приспособленного ни к общественной борьбе, ни к созданию личного благополучия. Чехов изобразил эту личность в ее среде, в ее непосредственных социально-исторических определениях. Анненский-лирик мыслит иными эстетическими категориями, воплощая в них сознание другой формации, хотя порожденное теми же историческими предпосылками.
Так, присущая чеховским персонажам жажда недоступной гармонии предстает у Анненского в совсем других экспрессивных формах:
И
чтоб не знойные лучи
Сжигали грани аметиста,
А лишь мерцанне свечи
Лилось там жидко и огнисто
И,
лиловея и дробясь,
Чтоб уверяло там сиянье,
Что где-то есть не наша связь,
А лучезарное слиянье...
"Аметисты"2
1 Письмо
к А. Бородиной. Письма Анненского к А.
В. Бородиной и Е.
М. Мухиной опубликованы И. И.
Подольской в "Известиях отделения
литературы и языка Академии наук СССР',
1972 ? 5, и 1973, ? 1. Одно
из писем к Мухиной (5 июня
1905 г.) содержит резкий отзыв о Чехове.
В этой связи И. Подольская пишет во
вступительной статье к публикации, что
отрицательная реакция Анненского на
творчество Чехова объясняется именно
тем, что чеховские персонажи, в
интерпретации Анненского, "слишком
сродни... ему самому'.
2 Слова связь и слиянье
подчеркнуты Анненским. Сцепление и слияние
противополагаются также в
стихотворении 'Тоска
миража'.
293
Связь, сцепление - существуют, но смысл сцепления непонятен, оно бесцельно и тем самым противоположно гармонии (слиянью).
Есть у Анненского и унаследованная от романтизма двойственность грязи и мечты:
Оставь
меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость только мука
По где-то там сияющей красе...
Есть у Анненского и страшный мир; хотя бы в стихотворении 'Кулачишка', предсказавшем некоторые мотивы блоковского 'Грешить бесстыдно, непробудно...'. Но органичнее всего для его поэзии - диалектика страшного и прекрасного мира. Анненский больше всего Анненский там, где его страдающий человек страдает в прекрасном мире, овладеть которым он не в силах.
В предисловии к своей трагедии 'Меланиппа-философ' Анненский писал: 'Жизнь своей красотой, силой и умственной "энергией безмерно превосходит всякую систему, плод единоличных, хотя бы и гениальных усилий. Только эта жизнь, кристаллизовавшаяся в ярких героических явлениях и славных муках, и может быть предметом трагедии. Автор трактовал античный сюжет и в античных схемах, но, вероятно, в его пьесе отразилась душа современного человека'.
Душа современного человека, изображенная в лирике Анненского, не была 'ярким героическим явлением' на античный лад, но и применительно к этой современной душе Анненский утверждает радость и красоту как необходимое условие трагического, как тот духовный опыт, который дает страданию цену. Счастье и красота - это и есть разрушаемое. Анненский понимал трагедию как гибель высокого духа, наделенного богатствами жизни; жизнь, лишенная ценностей, - не материал для трагедии, потому что трагедия - это утрата ценностей, самых главных для ее героя.
Для Анненского мир - источник не только страха и сострадания, но и красоты; не узкой, эстетской красоты, но понимаемой широко (до неопределенности), вмещающей творчество, природу, любовь, самое чувство жизни и переходящей в счастье. Анненский считал музыку 'самым непосредственным... уверением человека в возможности для него счастья'1.
Обещание счастья изменяет соотношения лирического субъ-
1 КО-1, с. 113.
294
екта с действительностью. Не избранная личность перед низкой повседневностью, не человек, заброшенный в безусловно враждебный ему страшный мир, но человек, тянущийся к миру, который ему не дается.
Поздний романтизм вовсе не чуждался изображения конкретной действительности, но обычно для него это 'низкая' действительность, противостоящая мечте и идеалу. Отсюда гротеск в качестве средства ее изображения. Левый французский романтизм, связанный с утопическим социализмом, придал этому метафизическому соотношению социальный смысл. Низкая действительность есть мир социального зла, и в этом плане ему противостоит утопия (рухнувшая в 1848 году) гармонического человека и справедливого общественного устройства. Бодлер, вышедший из романтизма, был не только отцом декадентства, но и предтечей социально окрашенного урбанизма. Зло метафизическое и зло социальное (противостоящие идеалу) совместились в его поэзии. Бодлеровская формула стала определяющей для многих явлений лирической поэзии конца XIX - начала XX века. Но поэтический мир Анненского существует уже по другим законам. Его лирические конфликты не только принципиально отличаются от романтических; в какой-то мере Анненский ушел и от декадентского конфликта между страшным миром и изолированным человеком. Сила Анненского, до сих пор ощутимая, в этом сопротивлении лирическому дуализму, в возникшей отсюда концепции поэта. Поэзия питается внешним миром; с восприятия его явлений начинается движение поэтической мысли. '...Как иногда мне тяжел этот наплыв мыслей, настроений, желаний - эти минуты полного отождествления души с внешним миром...' - так описывает Анненский творческий процесс (письмо к А. Бородиной). Поэт, носитель этого процесса, не выражает сам себя. Он не выше всех и не отъединен от всех; он - тот, кто 'с призрачной страстностью готов жить решительно за всех'1.
Об Анненском в свое время писали как о поэте смерти2. Ан-
1 КО-2, с. 10.
Анненский настойчиво обращался к этой
теме. В наброске 1903 г. 'Что
такое поэзия?'
он пишет: '...Новая
поэзия ищет точных символов для ощущений,
то есть реального субстрата жизни, и для настроений,
то есть той формы душевной жизни,
которая более всего роднит людей между
собой, входя в психологию толпы с таким
же правом, как в индивидуальную
психологию' (А,
1911, 6,
с. 56). В письме
1908 г. к Е. Мухиной он называет поэта
человеком, 'который
закрепляет своим именем невидную работу
поколений и масс'.
2 См.,
например: В. Ходасевич. Об Анненском. -
Феникс, т. 1, М, 1922.
295
ненский, в самом деле, много говорил о смерти и похоронных атрибутах. Но он же утверждает, что 'поэт влюблен в жизнь'. Анненский понимал, что лирический поэт не может не любить то, о чем пишет, что это противоречило бы самой сущности лирики как особой системы выражения человеческих ценностей. Мысль о влюбленности поэта в жизнь (смерть потому и трагична) Анненский высказывал в статьях, и он реализовал ее в своем творчестве.
Едва
пчелиное гуденье замолчало,
Уж ноющий комар приблизился, звеня...
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
Тревожной пустоте оконченного дня?
Мне
нужен талый снег под желтизной огня,
Сквозь потное стекло светящего устало,
И чтобы прядь волос так близко от меня,
Так близко от меня, развившись,
трепетала.
Мне
надо дымных туч с померкшей высоты,
Круженья дымных туч, в которых нет
былого,
Полузакрытых глаз и музыки мечты,
И
музыки мечты, ещё не знавшей слова...
О, дай мне только миг, но в жизни, не во
сне,
Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне!
Это 'Мучительный сонет' - одно из лучших созданий Анненского, стихотворение, отмеченное веяниями XX века и в то же время насыщенное наследием русской лирики - от фетовской пряди волос до концовки, столь близкой к тютчевскому:
О,
небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы - и погас!
В сонете Анненского человек измучен не страшным и отталкивающим миром, а миром прекрасным в своих осязаемых подробностях. Перед ним совершенно реальные ценности - творчество, природа, любовь (то есть ценность другого). Трагедия же человека и вина человека в том, что сам он не в силах реализоваться (стать огнем). Стихотворение 'В марте' прямо об этом и написано; и всегда присутствующий у Анненского внутренний конфликт вынесен в нем на поверхность -
Позабудь
соловья на душистых листах,
Только утро любви не забудь!
Да ожившей земли в неоживших листах
Ярко-черную грудь!
Меж
лохмотьев рубашки своей снеговой
Только раз и желала она, -
296
Только раз напоил ее март огневой,
Да пьянее вина!
Только
раз оторвать от разбухшей земли
Не могли мы завистливых глаз,
Только раз мы холодные руки сплели
И, дрожа, поскорее из сада ушли...
Только раз... в этот paз...
Для романтического сознания, которое жило еще в Бодлере и его последователях, природа - противовес низкому или страшному миру, область, куда уходят от его страстей и обид.
Quand
chez les débauchés l'aube blanche et vermeille
Entre en société de 1'idéal rongeur,
Par l'opération d'un mystère vengeur
Dans la brute assoupie un Ange se réveille.
Des
Cieux Spirituels l'inaccessible azur,
Pour l'homme terrassé
qui rêve encore et souffre,
S'ouvre et s'enfonce avec 1'attirance du gouffre...1
У Бодлера рассвет, небо - противовесы животному началу в человеке, символы вечного и потустороннего. Но у Анненского мартовская земля не противостоит человеку. Он сцеплен с нею. Она мучается и чувствует как человек, а человек учится у весенней земли, боится ее, завидует ей - они существуют на равных правах.
Анненский всего сильней и самобытней, когда его лирика - разговор об отношениях лирической личности с внешним миром, враждебным и крепко с ней сцепленным, мучительным и прекрасным в своих вещных проявлениях.
Никогда Анненский не мыслил поэзию отторгнутой от жизни. Другое дело, что эту связь с жизнью он мыслил в Аристотелевых категориях - как связь ужаса и сострадания.
'Борьба, страдание, жертва, религиозный закон, - говорит Анненский, - все эти исконные элементы трагедии получают такой глубокий, такой вечный смысл именно потому, что великие трагики Эллады жили прямым или отраженным светом грандиозной трагедии человеческой жизни'2. Ссылаясь на 'Поэтику' Аристотеля, Анненский, в частности, имел в виду одну из его формулировок: 'Сострадание возникает при виде того, кто стра-
1 Когда к погрязшим в разврате
входит белый и алый рассвет вместе с
гложущим идеалом, - совершается
мстительное таинство пробуждения
ангела в спящем звере. Недоступная
лазурь духовного неба открывает свои
глубины, манящие, как бездна,
поверженному в прах человеку, который
еще мечтает и страдает.
2 И. Анненский.
Античная трагедия. -
В кн.: Театр
Еврипида, т. 1. СПб., с. 20.
297
дает невинно, а страх из-за того, кто находится в одинаковом с нами положении'1. Но ведь для Анненского уже неволя богов была источником страданий невинного...
Анненский, несомненно, считал, что неблагополучие заложено в самой природе человека, обреченного смерти и разрушению. Но для него проблема страдающего человека не кончалась на этой метафизике страдания. Прав В. Александров, утверждавший, что 'сознание социального неблагополучия окрашивает едва ли не всю поэзию Анненского' - не только столь немногочисленные у Анненского политические стихи, но и 'личные'2. Иногда Анненский об этом неблагополучии говорит прямо, но чаще всего это именно окраска, тревожная атмосфера бытия в несправедливом, неправильно устроенном мире. Ужас и сострадание имели у Анненского свою метафизику и свою социологию, очень туманную, конечно, но и очень для него органическую. Ведь и в политических его стихах речь идет все о том же, о бессилии перед задачами жизни. Об этом и написано замечательнейшее из них - 'Старые эстонки (Из стихов кошмарной совести)':
Сыновей ваших... я ж не казнил их...
Я,
напротив, я очень жалел их,
Прочитав в сердобольных газетах,
Про себя я молился за смелых,
И священник был в ярких глазетах.
Затрясли
головами эстонки.
'Ты жалел их... На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки
И ни разу она не сжималась?
Спите
крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!'
Так же как творчество Блока, творчество Анненского питалось двумя стихиями - новой поэзией и традицией русской лирики XIX века3. У Анненского к этому присоединяется третье начало; французские поэты второй половины века - парнасцы, 'проклятые', символисты. Самая концепция символизма определялась для Анненского теориями его французских предшественников. Существеннейшее значение имела для него и поэтическая прак-
1 Аристотель. Поэтика. Л., 1927, с. 55.
2 В. Александров. Иннокентий
Анненский. -
Литературный критик, 1939, ? 5-6, с.
121.
3 О связях Анненского с русскими
лириками говорит А. В. Федоров в
упомянутой выше статье
'Поэтическое
творчество Иннокентия Анненского' (с.
36-37, 48).
298
тика французов. И все же в целом в стихах Анненского - даже самых изощренных - над всем господствует русская лирическая интонация, порой романсная:
Бесследно
канул день. Желтея, на балкон
Глядит туманный диск луны, еще бестенной,
И и безнадежности распахнутых окон,
Уже незрячие, тоскливо-белы стены.
Сейчас
наступит ночь. Так черны облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
Там все, что прожито, - желанье и тоска,
Там все, что близится, - унылость и
забвенье.
Здесь
вечер как мечта: и робок, и летуч,
Но сердцу где ни струн, ни слез, ни
ароматов,
И где разорвано и слито столько туч...
Он как-то ближе розовых закатов.
Непосредственное восприятие привычных романсных ходов и интонаций может даже поглотить столь характерные для Анненского черты этого стихотворения - предметность его иносказаний, точность психологического движения.
В XVIII веке, даже в начале XIX еще возможны были иноязычные воздействия на самый строй русского стиха. На протяжении XIX века создастся столь мощная его культура, что из-под ее власти трудно было вырваться поэтам, даже сознательно ставившим себе подобную задачу. При самых глубоких связях с эстетикой французской 'новой поэзии' Анненским владеет стихия русского лиризма, как и у Блока - может быть, резче, чем у Блока, - перестроенная современным символизмом. По своему поэтическому мировосприятию Анненский - символист. Но символы для него - не средство познания 'непознаваемого', а скорее соответствия между психическими состояниями человека и природной и вещной средой его существования.
В статье 'Бальмонт-лирик' Анненский говорит о способах поэтического изображения современного я: 'Для передачи этого я нужен более беглый язык намеков, недосказов, символов: тут нельзя ни понять всего, о чем догадываешься, ни объяснить всего, что прозреваешь или что болезненно в себе ощущаешь, но для чего в языке никогда не найдешь и слова. Здесь нужна музыкальная потенция слова, нужна музыка уже не в качестве метронома, а для возбуждения в читателе творческого настроения, которое должно помочь ему опытом личных воспоминаний, интенсивно-
299
стью проснувшейся тоски, нежданностью упреков восполнить недосказанность пьесы и дать ей хотя и более узко интимное и субъективное, но и более действенное значение'1.
Ориентация поэта на музыку идет еще от Верлена, требование недосказанности, расчет на творческую активность читателя - это доктрина Малларме, которая в произведениях его последнего творческого периода привела к предельной смысловой затрудненности. Для большинства французских символистов поэтические символы - вовсе не шифры мистических содержаний, а подобия, соответствия - знаменитые бодлеровские correspondances.
Помимо стихотворения Бодлера под этим названием, Анненский должен был знать и теоретические его высказывания на ту же тему; например, в статье о Гюго 1861 года: '...Всё, форма, движение, число, цвет, аромат, в сфере духовной и в сфере природной, является значащим, взаимным, обратимым, соответствующим... Всё есть иероглиф, и символы бывают темны только относительно, то есть в меру природной чистоты, доброй воли или проницательности душ. Что же такое поэт (беру это слово в самом широком смысле), если не переводчик, не дешифровщик?'2
Установки Анненского, отчасти напоминающие высказывания молодого Брюсова, гораздо ближе к положениям французских символистов, нежели к философии символизма Белого или Вячеслава Иванова. Недаром в статье 'О поэзии И. Ф. Анненского' Вячеслав Иванов писал: 'И.Ф. Анненский - лирик является ... символистом того направления, которое можно было бы назвать символизмом ассоциативным. Поэт-символист этого типа берет исходною точкой в процессе своего творчества нечто физически или психологически конкретное и, не определяя его непосрсдственно, часто даже вовсе не называя, изображает ряд ассоциаций, имеющих с ним такую связь, обнаружение которой помогает многосторонне и ярко осознать душевный смысл явления, став-
1 КО-1,
с. 185. - В статье 'О
современном лиризме' Анненский
утверждал, что благороднейшее
назначение слов 'связывать переливной
сетью символов "я" и "не-я",
гордо и скорбно сознавая себя средним, и
притом единственным средним, между
этими двумя мирами. Символистами
справедливей всего называть... тех
поэтов, которые не столько заботятся о
выражении "я" или изображении
"не-я", как стараются усвоить и
отразить их вечно сменяющиеся
взаимоположения' (А, 1909, ? 1, с.
23).
2 Charles Baudelaire. Réflexions sur quelques-uns de mes
contemporains. Oeuvres complètes. L'art romantique. P. 1925, p.
305.
300
шего для поэта переживанием, и иногда впервые назвать его - прежде обычным и пустым, ныне же столь многозначительным его именем'. В. Иванов противопоставляет этот метод своему символизму, 'который пишет на своем знамени "a realibus ad realiora <от реального к реальнейшему>"' и, срывая с вещей внешние покровы, постигает их ноуменальную сущность. 'Тогда как старый метод - метод Малларме и Анненского - возвращает нас, по совершении экскурсии в область "соответствий", к герметически замкнутой загадке того же явления'1. Вячеслав Иванов с восхищением писал о поэзии Анненского, но в принципе он отвергал его 'земной символизм'.
Анненский проповедовал поэтику недосказанности и 'музыкальной потенции'. В какой же мере осуществлялись эти взгляды в его поэтической практике?
История мировой литературы учит нас тому, что не всегда следует безоговорочно применять декларации писателей к их творчеству. Анненский сам отнюдь не принадлежал к числу поэтов с иррационально колеблющимися значениями, с неразложимыми сгустками смыслов или преобладанием общей 'музыкальной' окраски.
Поэзии Анненского с ее сцеплением предметного и душевного мира необходима многозначность слова, но не следует смешивать многозначность с неопределенностью. Анненский - поэт интеллектуальных структур и точно зафиксированных явлений. Он действительно, любит намеки, 'недосказ', и поэтому опускает звенья поэтической логики. Но эти звенья почти всегда восстановимы.
Полюбил
бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От нее даже дыму
Не уЙти в облака,
Эта
резаность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенски синий
И заплаканный лед!
"Снег"
Какая верность взгляда, и какой твердой рукой это написано! Но почему, например, лед - нищенски синий? Какова здесь логика эпитета? Зима - грузная, зима - обуза, с нею трудно. Лед - синий, обнаженный, лишенный покрова; нищ тот, кто всего ли-
1 А, 1910, ? 4, с. 16-18.
301
шен, предоставлен холоду. Синева льда сцеплена с нищенством. Дальнейший ход ассоциаций: нищий - заплаканный. Но лед заплаканный, вероятно, еще и потому, что местами подтаял и на нем проступает вода1. Тяжесть и холодная обнаженность окончательно осмысляются в единстве со второй частью стихотворения, с ее темой прелестного, все смягчающего снега:
Но
люблю ослабелый
От заоблачных нег -
То сверкающе белый,
То сиреневый снег...
У Анненского пропущенные звенья поэтической мысли не изымаются, а как бы уходят в контекст. Читатель восполняет 'недосказ' не смутным музыкальным единством смысловых тональностей, по внутренней логикой соответствий между синевой льда и нищенской оголенностью, между всем этим комплексом и обузой зимы.
У Анненского много стихов романсного, фетовского склада; но в наиболее характерных своих проявлениях лирика его тяготеет к опосредствованному выражению авторского сознания. Речь здесь идет о лирике, которая не оперирует прямо мыслями и чувствами лирического субъекта, но зашифровывает их кратчайшим повествованием, сценой, изображением предмета или персонажа. Что касается изображения природы, то в силу старой поэтической традиции природа так тесно слилась с человеком, что не воспринималась уже в качестве инородного опосредствования его внутреннего мира.
Лирика середины и второй половины XIX века в конечном счете восходила к оде и медитации, к элегии, к песне и романсу. Но в другом своем русле она отправлялась от малого эпоса, от баллады, переходящей в стиховую новеллу о современном человеке. А наряду с этим лирически интерпретируются и описательные поэтические формы. Процессы эти характерны для французского романтизма. Если лирика Мюссе, например, идет от элегии начала века, скрестившейся с байронизмом, то молодой Гюго,
1 В 1909 году в третьей статье цикла 'О современном лиризме' по поводу сборника 'Иней' Поликсены Соловьевой Анненский писал: 'Но я расскажу вам рисунок, который мне будто всe еще видится со времени впервые прочитанного "Инея". Снег - чуть-чуть подтаявший, темноватый, твердый - уже с водицей, и среди этих белых и черных пятен - черные цепко-голые деревья с разоренными галочьими гнездами... Воздух резкий, прохватывающий, чуть-чуть синеватый, неба нет вовce, то есть оно есть, но озябло и ушло куда-то греться; взамен - простор, что-то чистое, опустело-холодное, но обязательное' (А, 1909, ? 3, с. 13). Здесь связь ассоциаций близка к связи ассоциаций в стихотворении 'Снег'.
302
Гюго 'Од и баллад' и 'Восточных стихотворений', уже в высшей степени склонен к опосредствованным формам. Понятно, что романтический историзм, увлечение Востоком и вообще всяческой экзотикой способствовали процветанию этого полубалладного-полулирического направления.
Потом начинается эстетская описательность Готье и парнасцев. В 'Эмалях и камеях' Готье, в сонетах Эредиа лирический сюжет часто сосредоточен на одном персонаже (историческом, экзотическом) и даже на одном предмете (излюбленная тема Эредиа - произведение старинного искусства).
Наследник романтиков и основоположник 'новой поэзии' Бодлер сделал из эстетской и экзотической предметности особые выводы. У Бодлера, наряду с предметами повседневными, есть и экзотические персонажи и ароматы, и аксессуары католической эстетики, и Восток; но подлинно бодлеровское не в поэтике красивых вещей, разработанной Теофилем Готье и парнасцами. Красивая вещь встречается со страшной вещью - вот поэтический мир Бодлера. Страшная вещь (апогей этих бодлеровских устремлений - знаменитая 'La Charogne', 'Падаль') - гипертрофированный прозаизм, урбанистический, порою обладающий резкой социальной окраской. Эти сочетания Бодлер завещал своим последователям. По-разному они оказались решающими для французских поэтов конца века. Рембо пошел еще дальше путем прозаизмов, у Малларме - 'красивая вещь' стала объектом сложнейшей символической игры, окончательно растворившей ее материальность.
Для французской лирики опосредствованно, повествовательное или описательное, чрезвычайно существенно. Романтиков влекла к этому история и экзотика, парнасцев - эстетизм, артистизм, интерес к пластической форме, символистов - самая их теория соответствий, подобий как признака поэтического мышления.
Русская романтическая лирика второй половины XIX века развивалась иначе. Блистательные традиции русской элегической школы 1800-1820-х годов отметили это развитие своей печатью. Это была мощная культура непосредственного лиризма, порой расходившаяся, порой сочетавшаяся с традицией поэзии мысли, которая высшее свое выражение нашла у Тютчева, с поэзией гражданской, безмерно углубленной Лермонтовым. Опосредствование экзотикой, историко-культурными сюжетами, эстетизированной предметностью никогда не было главным путем русской ли-
303
рики XIX века. Вот почему подобные явления в поэзии Брюсова воспринимались как восходящие прямо к парнасцам и французским символистам.
Анненский учился у французов - учился, в частности, сосредоточивать лирический сюжет на одном символически трактуемом предмете или на комплексе связанных между собой предметов. Я все же Анненский самобытен и на русском, и на французском литературном фоне. Там, где у Анненского вещь является не аксессуаром, а лирическим центром, - она не только не декоративна, но и вообще не статична, она вовлечена в движение. Вещи - скрипка, шарманка, будильник, испорченные часы, горящий фитиль, выдыхающийся детский шар - действуют, следовательно, меняются их соотношения с миром внешним и с тем внутренним, психологическим миром, которому они соответствуют. Через сюжетное движение вещей совершается лирическое исследование душевного процесса, детализация и конкретизация отдельных психологических состояний, которые в суммарной своей форме дали бы только отвлеченно-общие поэтические формулы - тоски, страха, разочарования или творческой радости.
![]()
Первый сборник оригинальных стихотворений Анненского, 'Тихие песни' (1904), только предсказывал будущий - и столь поздний - расцвет поэта. Высшее достижение Анненского - 'Кипарисовый ларец', и особенности его поэтического метода отчетливо проявились в самом построении этого сборника.
'Кипарисовый ларец' был издан посмертно (1910) сыном Анненского, поэтом Валентином Кривичем. В воспоминаниях о своем отце Кривич писал: 'Вчерне книга стихов эта планировалась уже не раз, но окончательное конструирование сборника все как-то затягивалось. В тот вечер, вернувшись из Петербурга пораньше, я собрался вплотную заняться книгой. Некоторые стихи надо было заново переписать, некоторые сверить, кое-что перераспределить, на этот счет мы говорили с отцом много, и я имел все нужные указания... Отец вернется из города с последним поездом: может быть, уже сегодня я смогу представить ему на санкцию книгу в готовом виде...'1
1 ЛМ, с. 208-209.
304
В этот самый ноябрьский вечер 1909 года Иннокентий Анненский внезапно скончался на подъезде Царскосельского вокзала.
Итак, 'Кипарисовый ларец' не имеет последней авторской редакции. Кривич мог многое внести от себя в окончательное 'перераспределение' материала; и все же очевидно, что не Кривичу принадлежит сложная система 'трилистников' и 'складней'.
В отзыве - с высокой оценкой поэзии Анненского - Брюсов писал об этой системе: 'Второй, уже посмертный, сборник стихов И, Анненского содержит сотню стихотворений, искусственно и претенциозно распределенных в "трилистники" (по три) и "складни" (по два)'1. Построение действительно самое условное. Двадцать пять малых циклов - трилистников. Между включенными в них стихотворениями существует иногда прямая тематическая связь: например, 'Трилистник вагонный' или 'Трилистник тоски', в который входят 'Тоска отшумевшей грозы', 'Тоска припоминания', 'Тоска белого камня'. Иногда единство трилистника держится на связи ассоциаций. Например, 'Трилистник огненный', где от первого стихотворения 'Аметисты' тянутся смысловые звенья к 'медному солнцу' второго стихотворения и к 'солнечным хрусталям' третьего. В некоторых трилистниках принцип сочетания невозможно установить без натяжек.
Но дело не в том, насколько Анненскому (и Кривичу) удалось справиться с затейливой композицией книги. Для нас важнее другое - в основе построения 'Кипарисового ларца' лежит все та же идея сплошных соответствий, подобий, взаимной сцепленности всех вещей и явлений мира. Эту концепцию Анненский и пытался выразить внешней связью всех стихотворений. Получилось искусственно - Брюсов прав. Но в своем отзыве Брюсов отметил и ту особенность поэтического мышления Анненского, которая побудила его сцепить между собой стихотворения 'Кипарисового ларца'. 'Он мыслил, - писал Брюсов, - по странным аналогиям, устанавливающим связь между предметами, казалось бы, вполне разнородными'.
В лирике Блока отдельные потоки, разные по темам и по стилистическому тону, сливаются в огромное единство. У Анненского другой масштаб - в 'Кипарисовом ларце' он хотел создать единый контекст в буквальном смысле слова.
1 В. Брюсов. Далекие и близкие. М., 1912, с. 159 (см. в собрании рецензию).
Несмотря на интерес к иррациональному и подсознательному,
305
Анненский - поэт интеллектуальный. Интеллектуальность в поэзии - это видимая работа познающей мысли, проявленная в самом сюжете стихотворения. Этой проявленной мыслью Анненский близок к Бодлеру, к Брюсову. У Блока познающая мысль обычно уходит в глубь поэтической ткани произведения. Не всегда, конечно; это не относится к 'Ямбам', вообще ко многим стихам последнего периода.
Интеллектуальность сосуществует у Анненского с унаследованным от русской поэзии XIX века пронзительным романсным лиризмом. Интеллектуальность обуздывает эту лирическую стихию.
В лирике опосредствованной лирическое событие как бы выходит за пределы авторского я, с тем чтобы замкнуться в сюжетной структуре исторического факта, персонажа, нередко одного предмета (это не мешает стихотворению быть звеном в контексте поэтических циклов). Для этого направления - в частности, у французских поэтов - характерно обилие и сюжетность заглавий. Тогда как лирика наиболее чистого типа часто обходится без заглавий. Много стихов без заглавий у Фета; заглавий почти нет в 'Стихах о Прекрасной даме'.
'Кипарисовый ларец' - построение полярное лирическим дневникам, движущимся сплошным потоком. Общий контекст этой книги складывается из законченных структур - отдельных стихотворений. Отсюда значение для 'Кипарисового ларца' семантики заглавий. Не только заглавия стихотворений, но и заглавия трилистников и складней задуманы как действенный элемент, как ключ, в котором должны читаться охваченные ими стихотворения. Этот замысел не всегда осуществляется с равным успехом. Есть заглавия натянутые, нужные только для соблюдения единого принципа. Есть заглавия, так сказать, тавтологические. Например, 'Трилистник тоски', включающий три стихотворения, в заглавия которых входит слово 'тоска', или 'Трилистник траурный' со стихами о смерти и похоронах, или 'Трилистник вагонный' ('Тоска вокзала', 'В вагоне', 'Зимний поезд'). Есть и заглавия, которые действительно дают ключ, динамизируют определенные смысловые элементы. Например, 'Трилистник обреченности'. ('Будильник', 'Стальная цикада', 'Черный силуэт') или 'Трилистник соблазна', куда входят 'Маки', 'Смычок и струны', 'В марте'. В этих случаях заглавие выявляет связь, существующую между стихотворениями трехчленного микроцикла.
Потребность в заглавии связана с сюжетностью. Разумеется,
306
каждое лирическое стихотворение имеет сюжет, если понимать под сюжетом чередование и соотношение семантических единиц. Все же мы говорим о лирической сюжетности, обычно имея в виду повествовательное начало в лирике или опосредствующее значение персонажей, предметов.
У Анненского лирическое событие не имеет повествовательной оболочки. Его сюжетность - в сцеплениях и разрывах между внешним и внутренним миром, в динамике вещей, подобной динамике отраженных в них душевных процессов. В поэзии Анненского эти соотношения воплощены по-разному. 'Смычок и струны', 'Старая шарманка' - здесь связь явно символическая. Вещь иносказательно замещает человека и потому наделяется человеческими свойствами.
'Не
правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? Довольно?..'
И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно.
То же в стихотворении 'Тоска медленных капель':
В
недвижно-бессонной ночи
Их лязга нé ждать не могу я:
фитиль одинокой свечи
Мигает и пышет, тоскуя.
И мнится, я должен, таясь,
На странном присутствовать браке,
Поняв безнадежную связь
Двух тающих жизней во мраке.
В стихах этого типа символика стоит уже иногда на грани однозначного аллегоризма.
Есть ряд стихотворений, в которых, напротив того, вещи сохраняют свое предметное качество. Они сопровождают душевный процесс, становятся его выразительными атрибутами. Так, например, в стихотворении 'Баллада':
Позади
лишь вымершая дача...
Желтая и скользкая... С балкона
Холст повис, ненужный там... Но спешно
Оборвав, сломали георгины.
'Во
блаженном...' И качнулись клячи.
Маскарад печалей их измаял...
Желтый пес у разоренной дачи
Бил хвостом по ельнику и лаял...
Это все конкретные обстоятельства душевного действа, в корне преобразующего их первоначальную прозаическую суть. Но для поэтического мышления Анненского специфичнее всего третий тип соотношения между вещью и человеком. Предмет не со-
307
провождает человека и не замещает его иносказательно; оставаясь самим собой, он как бы дублирует человека. В этом ключе написаны самобытнейшие стихи Анненского, в том числе 'Стальная цикада':
Я
знал, что она вернется
И будет со мной - Тоска.
Звякнет и запахнется
С дверью часовщика...
Сердца
стального трепет
Со стрекотаньем крыл
Сцепит и вновь расцепит
Тот, кто ей дверь открыл...
Жадным
крылом цикады
Нетерпеливо бьют:
Счастью ль, что близко, рады,
Муки ль конец зовут?..
Что это - механизм отданных в починку часов или тоскующее сердце человека? И то, и другое - двойники1.
То же в 'Тоске маятника'. А в стихотворении 'Умирание' (о съежившемся детском шаре) принцип даже раскрыт с какой-то рационалистической точностью:
Только б тот над
головой,
Темно-алый, чуть живой,
Подождал пока над ложем
Быть таким со мною схожим...
Вещно-психологическим соответствиям у Анненского угрожала бы схематичность, если б не острое чувство сцепления с предметами городской цивилизации - для поэта урбанистического века столь же естественное, как естественна была для его предшественников связь с природой, порождавшая столько сближений, созвучий и аналогий.
Как и большая часть русских поэтов рубежа XIX и XX века, Анненский учился у Фета конкретности восприятия. Но предметные подробности у Фета - это атрибуты если не самой природы, то вклинившейся в природу усадебной жизни. Городская жизнь и все, что к ней относится, - это для Фета уже дурная, низкая жизнь, остающаяся за гранью поэтического.
В отличие от Брюсова и подобно Блоку, Анненский сохраняет усадебную стихию русской лирики XIX века (у Анненского, впрочем, это часто уже загородный дом, дача). В то же время он знает уже, что современный человек - это городской человек.
1 Анненский, без сомнения, знал входящее в 'Эмали и камеи' стихотворение Готье об остановившихся часах {'La montre'). Но трактовка темы у Анненского совсем другая.
308
Оба начала совмещаются именно потому, что у Анненского в какой-то мере снято старое романтическое (руссоистическое по своим истокам) противостояние природы и цивилизации, природы и социальной жизни (несправедливо устроенной). В системе Анненского и усадьба (с ее мартовской землей, лунной террасой, маками в саду), и город - это конкретные условия существования человека и потому равноправный материал для символики его душевной жизни.
Мифотворчество и поэзия искони одушевляли природу, сливали ее с человеком, превращая в аналогию и подобие. Теперь этот процесс распространяется на вещи городского бытия. Они тоже становятся ландшафтом души и ее подобием. Но для того чтобы вплотную приблизиться к человеку, городской мир должен был потерять свои грандиозные очертания и сократиться до отдельных вещей. Урбанизм Анненского - это своеобразный микроурбанизм. Каждое из основных стихотворений цикла Верхарна 'Города-спруты' представляет собой большое полотно, сложное, многосоставное. В своей совокупности цикл охватывает основные слагаемые бытия большого города - 'Душа города', 'Соборы', 'Порт', 'Фабрики', 'Биржа'. Наряду с этим есть у Верхарна и отдельные сцены, вырезанные из жизни города. Так, например, в стихотворении 'Les promeneuses' или 'Les spectacles'. Предмет городского обихода, отдельная вещь для Верхарна не стала темой.
Учившийся у Верхарна Брюсов уже вступает отчасти на путь урбанистической детализации (наряду с произведениями большого охвата - 'Париж', 'Конь блед', 'Слава толпе') -
Когда
сижу один, и в комнате темно,
И кто-то за стеной играет долго гаммы, -
Вдруг фонари зажгут, и свет, пройдя в
окно,
Начертит на стене оконные две рамы...
1898
Здесь дробность, детализация городского пейзажа связана с некоторой описательностью; лирический микрокосм городской жизни складывается из разных элементов. Анненский же сосредоточен на одном предмете или на группе предметов, между собой сопряженных. Явно символическая концепция вещей сужает, ограничивает их отбор. Анненский не может и не хочет уйти от исконной символики музыкальных инструментов, часов, маятника. Но новое, урбанистическое сознание преображает вечные символы своим техницизмом - пусть самым элементарным тех-
309
ницизмом не только с нашей сегодняшней точки зрения, но и в масштабе технических возможностей начала XX века.
Так, вечная тема отсчитывающих время часов воплощена механизмом будильника. Как ни наивен техницизм будильника, но именно он изнутри перестраивает тему. Это уже не сетования о прошлом и уходящем, о неумолимом беге времени. Это страх перед будущим, которое мыслится (одна из типических концепций урбанизма 1900-х годов) как век бесчеловечной механизации.
Цепляясь
за гвоздочки,
Весь из бессвязных фраз,
Напрасно ищет точки
Томительный рассказ,
О
чьем-то недоборе
Косноязычный бред...
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет,
Где
нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где
сердце - счетчик муки,
Машинка для чудес...
И
скучно разминая
Пружину полчаса,
Где прячется смешная
И лишняя Краса.
Старая шарманка - это предмет в поэзии тоже не новый. Но и в эту тему Анненский внес своего рода техницизм:
Лишь
шарманку старую знобит,
И она в закатном мленьи мая
Все никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая.
И
никак, цепляясь, не поймет
Этот вал, что ни к чему работа,
Что обида старости растет
На шипах от муки попорота.
Изображение технического процесса и создаст здесь образ муки, всю протяженность и материальность этого образа.
Цепляясь, вал, шипы - что это здесь такое, прозаизмы? Разумеется, это нестилевые слова, прозаизмы. Но в системе Анненского они уже лишены особой лексической окраски, признаков тривиальной речи.
В статьях на литературные темы Анненский широко пользовался символистической фразеологией, но по поэтическому мировосприятию, определившему метод самых зрелых его творений, Анненский не дуалистичен. Поэтому в его стихах, особенно поздних, прозаизм не ощущается уже как инородный элемент -
310
пусть эстетически действенный и необходимый. У Анненского это уже нормальный лирический материал, поэтому не слишком ощутимый, во всяком случае не противостоящий самому высокому поэтическому образу.
Разве
б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя, не мучась?..
Здесь вовсе нет игры на крутых переходах от низкого к высокому, от высокого к низкому - столь милых романтическому сознанию XIX века.
Меру ценности вещей - тем самым и высоты слов - поэт ищет теперь в их символической связи с душевными муками и радостями человека. Шипы не ниже струн, потому что и те и другие являются знаками важных душевных событий. И те и другие могут быть поэтичны.
Эти предпосылки позволили Анненскому написать стихотворение, в котором автор беседует с паровозом в лирической, фетовской манере:
Мы
на полустанке,
Мы забыты ночью,
Тихой лунной ночью
На лесной полянке...
Бред - или воочью
Мы на полустанке
И забыты ночью?
Далеко зашел ты,
Паровик усталый!
Доски бледно-желты,
Серебристо-желты,
И налип на шпалы
Иней мертво-талый.
Уж туда ль зашел ты,
Паровик усталый?
Тишь то в лунном свете
Или только греза
Эти тени, эти
Вздохи паровоза
И, осеребренный
Месяцем жемчужным,
Этот длинный, черный
Сторож станционный
С фонарем ненужным
На тени узорной?
Динь-динь-динь - и мимо,
Мимо грезы этой,
Так невозвратимо,
Так непоправимо
До конца не спетой,
И звенящей где-то
Еле ощутимо.
Прозаизмы растворены здесь в лирическом контексте. Доски,
311
которые 'серебристо-желты', и шпалы с налипшим инеем - в своих символических потенциях равноправны лесной полянке, теням, лунному свету. Микроурбанизм сращивается с тонкой лирикой природы, а 'вздохи паровоза' в сочетании с повторяющимся местоимением 'эти' прямо ведут к фетовскому
Эти
зори без затменья,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь
без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всe -
весна.
Тему железной дороги, типическую для урбанизма конца XIX - начала XX века, Анненский трактует в ее подробностях:
О,
канун вечных будней,
Скуки липкое жало...
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала...
Полумертвые
мухи
На забитом киоске,
На пролитой известке
Слепы, жадны и глухи.
Флаг
линяло-зеленый,
Пара белые взрывы,
И трубы отдаленной
Без ответа призывы.
И
эмблема разлуки
В обманувшем свиданьи -
Кондуктор однорукий
У часов в ожиданьи...
"Тоска
вокзала"
В рецензии на русские переводы Верхарна Блок вспоминал о том, как 'чудища тоски ревут по расписаньям'. Это макрокосм железнодорожной темы. Анненский дает своего рода микрокосм, причем дробность, микроскопичность изображаемого доведена до мух, прилипших к известке. Стихотворение замечательно резкостью вещественных деталей. Но лирике Анненского совсем не свойственна описательность. Вещи интересуют его не сами по себе, но всегда в своей соотнесенности с человеком. Вещи - знаки душевного опыта, а психические процессы как бы ассимилируют материальную среду, окружающую человека.
И мух на забитом киоске, и в особенности однорукого кондуктора читатель воспринимает как реалии, как то, что поэт не выдумал, а увидел, но увидел как подобие.
И
эмблема разлуки
В обманувшем свиданьи...
312
Это уже прямо о символическом значении увиденного.
Предметы здесь - знаки тоски неподвижности. Эта тоска физиологически конкретна, но и очень объемна. Поскольку она - тоска 'вечных будней', из нее во что бы то ни стало нужен выход в любое движение, хотя бы механическое, безликое и бездушное.
Есть
ли что-нибудь нудней,
Чем недвижная точка,
Чем дрожанье полудней
Над дремотой листочка...
Что-нибудь,
но не это...
Подползай - ты обязан;
Как ты жарок, измазан,
Все равно - ты не это!
Острое поэтическое зрение различает дрожание полуденного воздуха над древесным листом. Подробностей много, они разные, внезапно пересекающиеся (дремота листочка, и измазанный паровоз, и полосатые тики диванов). Пестрые соответствия варьируют, обновляют старую тему скуки, будней и неподвижности.
Почему, собственно, мухи - слепы и глухи? Что такое глухая муха? Слепота и глухота формально относятся к мухам, но поэтически они в данном контексте отнесены к сознанию, раздавленному будничной неподвижностью. Паровоз - психологический противовес всему предыдущему, то есть муке неподвижности; вся она сосредоточена в местоимении это, одиноко стоящем среди разорванного, спотыкающегося синтаксиса строфы.
Поэтика 'недосказов', логических разрывов и внезапных уподоблений служит у Анненского цели поэтического исследования душевных состояний. Лирический анализ осуществляется через предметные ряды, вдоль которых движется сознание поэта, и па его пути каждое соответствие знаменует поворот развертывающегося психического процесса.
Тоска здесь уточнена как тоска вокзала, и неподвижность ожидания томительно сочетается с бездушностью механического движения. Исконные (еще элегические) состояния души - тоска, скука, гнет будничной жизни, страх застоя - воплощены в конкретностях современной жизни, в переводе на язык поэтических символов, всегда непредвидимых и непривычных. Скуки липкое жало ассоциируемся с полумертвыми мухами; однорукий кондуктор оказывается образом обманувшего свидания; будничный застой получает свое простейшее выражение в геометричности недвижной точки. И абстрактная точка входит в бытовое окружение, сопровождаемая фамильярным словом нудней.
313
Есть
ли что-нибудь нудней,
Чем недвижная точка...
Символика жестких конкретностей, индивидуальная, возникающая из контекста, в системе Анненского удивительно свободно и органично уживается с его романсными интонациями, с вечными темами и лирикой лунных ночей. Урбанистический мир в мельчайшем его выражении - составная часть этого мира боли, красоты и ускользающего от бессильных рук, но несомненного счастья.
В 'Трилистнике вагонном' непосредственно за 'Тоской вокзала' следует стихотворение 'В вагоне' - одно из высших достижений лирического психологизма Анненского.
Довольно
дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.
В
непостижимой им борьбе
Мятутся черные ракиты.
"До завтра, - говорю тебе, -
Сегодня мы с тобою квиты".
Хочу,
не грезя, не моля,
Пускай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.
А
ты красуйся, ты
- гори...
Ты уверяй, что ты простила,
Гори полоской той зари,
Вокруг которой все застыло.
Здесь тоже вещи, воспринятые с обычной для Анненского отчетливостью, - облака, мятущиеся ракиты, окно в налипшем, как вата, снегу. Но в данном случае это аксессуары; подлинные же двигатели лирического сюжета - люди. Это стихотворение - образец лирической новеллистичности, удивительной по динамике подразумеваемого. 'До завтра, - говорю тебе, - сегодня мы с тобою квиты', 'Пускай безмерно виноватый', 'Ты уверяй, что ты простила' - таким пунктиром прочерчено состояние человека, который знает, что завтра все начнется сначала, но так устал, что сегодня еще не хочет предложенного ему прощения.
Современная Анненскому новелла - Чехов в первую очередь - раскрывает течение чувств и мыслей между репликами персонажей. Мы узнаем этот метод в скупом чертеже кратчайшей лирической повести. Стихотворений этого типа у Анненского не много, но качественно они очень важны: в них возможности будущего развития.
314
Эстетическое равноправие распространяется не только на будничные вещи, но и на будничные диалоги, на реплики, вкрапленные в монолог лирического поэта. Любовь и страдание способны говорить разговорным языком, так же как и лирически-романсным; даже в большей мере - потому что именно разговорно-интеллигентская речь адекватна недосказанным, обрывающимся коллизиям городского человека начала XX века.
Вот что должно было больше всего поразить начинающую Ахматову, которая пишет, вспоминая свое вступление в литературу: 'Когда мне показали корректуру "Кипарисового ларца" Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете'1.
1 Анна Ахматова. Стихотворения (1909-1960). М., 1961, с. 7.
Есть у Анненского опыты, даже близкие к 'сатириконским' стихам Саши Черного 1908-1910 годов. Например, стихотворение 'Нервы' (1909), сплошь разговорное - лексикой и интонацией. Вообще бытовой диалог в поэзии сатирической имел давнюю традицию; но лирика чувств в принципе была для него закрыта. Анненский вводит в любовную лирику прямую речь, особенно смело в стихотворении 1909 года 'Прерывистые строки':
Зал...
Я нежное что-то сказал
Стали прощаться,
Возле часов у стенки...
Губы не смели разжаться,
Склеены...
Оба мы были рассеянны,
Оба такие холодные,
Мы...
Пальцы ее в черной митенке
Тоже холодные...
"Ну, прощай до зимы,
Только не той, и не другой
И не еще - после другой...
Я ж, дорогой,
Ведь не свободная..."
- "Знаю, что ты - в застенке..."
Отсюда уже переход, с одной стороны, к раннему Маяковскому:
Вошла
ты,
резкая, как 'нате!',
муча перчатки замш,
сказала:
315
"Знаете
-
я выхожу замуж,
-
1
с другой стороны - к ахматовскому:
Задыхаясь, я
крикнула: 'Шутка
Все, что было.
Уйдешь, я умру!'
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: 'Не
стой на ветру'.
1 О значении творчества Анненского
для Маяковского см. в статье В. Перцова
'Реализм
и модернистские течения в русской
литературе начала XX века' (Вопросы
литературы, 1957, ? 2, с. 67).
Н. Харджиев пишет: 'Сходство
между Анненским и Маяковским нельзя
искать в отдельных темах или
стихотворениях, но несомненно, что
некоторые черты поэзии Анненского были
близки Маяковскому в период его
поэтического формирования. О том, что
Маяковский знал стихи Анненского,
свидетельствует упоминание автора "Кипарисового
ларца" в стихотворении "Надоело"
(1916) наряду с именами Тютчева и Фета...
Особенно интересно стихотворение
Анненского "Разлука (Прерывистые
строки)", построенное целиком па
перебоях метров и на резких контрастах
длинных строк с короткими, вплоть до
односложных и даже однофонемных ("Как
в забытьи, И...")'
(Заметки о Маяковском. -
Литературное наследство, т. 65. М., 1958,
с. 409-410). То же в кн.:
Н. Харджиев, В. Тренин.
Поэтическая
культура Маяковского. М., 1970, с. 199). В
воспоминаниях о Маяковском К. Чуковский
также отмечает его интерес к Анненскому
и другим поэтам-символистам (Корней
Чуковский. Из воспоминаний. М., 1959).
![]()
В статье 'О природе слова' О. Мандельштам писал: 'Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием... Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контраданс "соответствий", кивающих друг на друга. Вечное подмигивание... Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой... Русские символисты... запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно - ни пройти, ни встать, ни сесть... Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного значения (как будто варить не абсолютное назначение)'2.
2 О. Мандельштам. О поэзии. Сборник статей. Л., 1928, с. 41-42.
Статья 'О природе слова' появилась в 1922 году, но в ней отразились усилия поэта начала 1910-х годов преодолеть символистическое развеществление. Послесимволистической поэзии понадобился тогда Анненский с его психологизмом и новым пониманием позиции поэта и конфликтов поэта, с его миром, в котором явления повседневного опыта служили отправной точкой
316
лирического движения (это стало характерной чертой поэзии XX века, вплоть до нашего времени).
Самые радикальные выводы из уроков Анненского сделала Анна Ахматова. Притом, восприняв некоторые его поэтические принципы, Ахматова сразу же пошла дальше.
У предметных слов Анненского есть второй план; они всегда сопровождают, замещают, дублируют нечто другое. И потому они очень естественно совмещаются с абстракциями, с теми даже, которые Анненский пишет с большой буквы, - чтобы не было никаких сомнений в их абстрактности.
Оставь меня. Мне ложе стелет Скука
И будет со мной - Тоска.
Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце, и силы дотла -
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.
В этом отношении особенно замечательно стихотворение 'Зимний поезд' с натуралистически резким изображением ночного вагона:
Тем
больше слов, как бы не слов,
Тем отвратительней дыханье,
И запрокинутых голов
В подушках красных колыханье.
И тут же:
Среди
кошмара дум и дрем
Проходит Полночь по вагонам.
И далее:
Но
тает ночь... И дряхл и сед,
Еще вчера Закат осенний,
Приподнимается Рассвет
С одра его томившей Тени.
Прописные буквы (ими охотно пользовались символисты) превращают явление в олицетворение. Олицетворение эстетически совместимо с прозаизмом, потому что и прозаизмы Анненского символичны. В системе Ахматовой все это было бы невозможно. Подобные совмещения исключает самое художественное пространство ее стихов.
Мыслимым пространством для лирического сюжета служит только сознание поэта (отражающее общественное сознание), его внутренний опыт, независимо от того, идет ли речь о личном переживании или о делах и предметах внешнего мира. Представле-
317
ния свободно движутся в лирическом пространстве; в нем скрещиваются отдаленные смысловые ряды, отвлеченное встречается с конкретным, субъективность с действительностью, прямое значение с иносказательным. Подобная специфика присуща Анненскому и тогда, когда героями его стихотворений являются зашифровывающие лиризм предметы внешнего мира.
Эпическое произведение не только протекает во времени, но и строит некоторое представляемое читателем объективное пространство, где располагаются предметы и совершаются события. Ахматова в своих ранних стихах создает пространство по принципу, близкому к прозе, как бы имитирующему прозу.
Все
как раньше: в окна столовой
Бьется мелкий метельный снег,
И сама я не стала новой,
А ко мне приходил человек.
...Но,
поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
'Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты'.
В ахматовском пространстве нет места для слов с большой буквы. Лирика же остается лирикой. По формуле Гегеля, говорившего о лирических произведениях с эпическим уклоном, что в них важно 'не самое событие, но отражающийся в нем душевный строй'1.
Сугубая вещность поэтического мира, интеллигентски-разговорный язык в качестве основного материала лирической речи (нередко в сочетании с языком торжественным), новеллистичность сюжета, связь с традицией психологической прозы, наследие русской классической лирики, точность слова, сдержанность интонации, напряженный лаконизм - об этих чертах раннего творчества Ахматовой, разительно новых в атмосфере еще существующего символизма, - сказано много в посвященных ей работах В.М. Жирмунского ('Преодолевшие символизм'), Б.М. Эйхенбаума ('Анна Ахматова'), В.В. Виноградова ('О поэзии А. Ахматовой') и других исследователей и критиков.
1 Гегель. Лекции по эстетике. Сочинения, т. 14. М., 1958, с. 294.
Писавшие о ранней Ахматовой отмечали предметность в качестве господствующего принципа ее поэзии. Отсюда неметафоричность ахматовского стиля. Поэзия Ахматовой - не поэзия переносных смыслов. В основном у нее значения слов не изменены метафорически, но резко преобразованы контекстом, слож-
318
ным и смелым отбором, выделением, соотнесением неожиданных признаков. Блок в письме 1912 года упомянул об 'астральной моде' на шлейфы и 'перчатки, пахнущие духами'. Блок говорит здесь - уже с неодобрением - о превращении вещей в символические атрибуты декадентски-демонического женского начала. У Ахматовой вуаль, перчатки, муфта - отнюдь не символы, но ведь это и не только вещи. Вещи у Ахматовой - представители ее лирической стихии. О вещных словах Ахматовой писал В. В. Виноградов: 'Их семантический облик двоится: то кажется, что они непосредственно ведут к самим представлениям вещей, как их ярлыки, роль которых - создавать иллюзию реально-бытовой обстановки, то есть функция их представляется чисто номинативной; то чудится интимно-символистическая связь между ними и волнующими героиню эмоциями. И тогда выбор их рисуется полным глубокого значения для истинного, адекватного постижения чувств героини'1.
У Анненского прозаизмы находятся в процессе утраты своего особого качества. Для Ахматовой 1910-х годов это уже не процесс, а безусловная данность. Уже в 'Четках' поражает поэтическая сила, вложенная в будничные слова. Поэтика Анненского - поэтика символической конкретности; Ахматова отвергает претворение реалий в иносказания - и в этом острая принципиальность и новизна ее поэтического дела 1910-х годов. Но конкретное слово Ахматовой преобразовано и расширено контекстом.
Звенела
музыка в саду
Таким невыразимым горем,
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
'Вечером'
Устрицы - прозаизм по нормам поэтики XIX века. В 'Путешествии Онегина' Пушкин так и употребил это слово2. Для
1 В. Виноградов. О поэзии А. Ахматовой
(стилистические наброски). Л., 1925, 60-61.
2 Мы только устриц
ожидали
От цареградских берегов.
Что устрицы? пришли! О, радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызгнутых лимоном.
319
Ахматовой это уже не прозаизм, ощутимый в своем лексическом качестве, а только предмет среди других предметов. Устрицы здесь нисколько не иносказательны, но значение слова поэтически емко. Контекст выдвигает нужные ему значения. Устрицы здесь - 'морская вещь', вещь, несущая образ моря - 'свободной стихии', - вносящая его в душное томление городского сада. Поэтическое слово наращивает новые признаки, полностью сохраняя первичное предметно-логическое свое значение. В творчестве Ахматовой это традиция поздней лирики Пушкина.
Вопрос о традиции для творчества Ахматовой в высшей степени важен. Традиции есть у каждого поэта, но значение их разное в разных поэтических системах. Есть поэты скрытых традиций, даже декларативно отрицаемых. Подобно Пушкину, подобно Блоку, Ахматова - поэт традиций проявленных, неким конструктивным элементом входящих в ее собственную лирическую систему. В литературе об Ахматовой много указаний на ее традиции; русская классика (Пушкин, Тютчев, Баратынский, Некрасов), русская 'новая поэзия', особенно Анненский, фольклор, даже русская психологическая проза XIX века.
По-видимому, именно с уроками психологической прозы связано неоднократно отмечавшееся влечение Ахматовой к противоречивым словосочетаниям (оксюморонам): 'Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной', 'Помолись о нищей, о потерянной, О моей живой душе', 'Ни один не двинулся мускул Просветленно-злого лица', 'Как светло здесь и как бесприютно'. Исследование противоречий душевной жизни - неотъемлемая черта психологического метода. В острых оксюморонах Ахматовой - кратчайшее лирическое выражение диалектики души.
Творчество Анны Ахматовой свидетельствует о том, что сознательно, открыто утверждаемая традиция не только не противопоказана новизне, но, напротив того, делает новизну особенно ощутимой.
Героиня ранних стихов Ахматовой - женщина десятых годов, современная женщина, в лирике впервые изображенная в конкретности своего бытия и своего душевного опыта. Это было поэтическим открытием еще неисследованной страны, где вещи стали аксессуарами развертывающейся драмы, а интеллигентски-разговорный язык с необычайной смелостью превращен был в язык любовной лирики.
Но открытый Ахматовой душевный мир не стал в ее лирике
320
единственным источником поэтичности. Она испытывала потребность подтвердить значение этого мира, сомкнув его с другими поэтическими сферами; она расширила, углубила опыт современной души темой русской природы и ценностями погруженного в традицию народного сознания.
Психологические драмы героини разыгрываются одновременно на двух сценах. Одна из них - город, с конкретными чертами быта, со спецификой Петербурга, другая - природа, сельская жизнь.
Ахматовская лирика природы, даже самая ранняя, открыто и твердо занимает место в ряду, означенном традицией Пушкина, Тютчева, Фета. В своей лирике природы Ахматова сочетает классическое наследие с удивительной неожиданностью точных деталей:
Бессмертник
сух и розов. Облака
На свежем небе вылеплены грубо.
Единственного в этом парке дуба
Листва еще бесцветна и тонка.
Эти строки полны дыханием русской классики. Но поэты веками воспевали весеннюю листву, а Ахматова первая сказала о том, что только что развернувшийся дубовый лист бесцветен.
В сфере природы дублируется душевный опыт героини - как бы освобождаясь от замкнутости, от 'эгоизма' городского мира, приобщаясь к переживанию всегда прекрасного. Но городской мир Ахматовой имеет еще одного двойника, возникающего из песни, из русского фольклора, У петербургской драмы есть фольклорное отражение, неизменно идущее рядом1.
1 О том, что поэзия Ахматовой позволяет 'в литературной русской даме двадцатого века - угадывать бабу и крестьянку', - писал Мандельштам в статье 1923 года 'Буря и натиск' (Русское искусство, 1923, ? 1).
Хочешь
знать, как все это было? -
Три в столовой пробило,
И, прощаясь, держась за перила,
Она словно с трудом говорила:
'Это
все... Ах, нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас любила
Еще тогда!' -
'Да'.
Это коллизия городская; и тут же ее песенный дублет:
Я
на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.
321
Вырываю и бросаю
-
Пусть простит меня.
Вижу, девочка босая
Плачет у плетня.
Страшно
мне от громких воплей
Голоса беды,
Все сильнее запах теплый
Мертвой лебеды...
Эти песенные параллели важны в общей структуре лирического образа ранней Ахматовой. Психологические процессы, протекающие в специфике городского уклада, протекают одновременно и в формах народного сознания, как бы исконных, общечеловеческих. Так подтверждает Ахматова общезначимость того индивидуального и конкретного, что стало предметом ее лирики.
Понимание поэтического слова как представителя явлений, доступных внешним чувствам или умопостигаемых, присуще и молодому Пастернаку. Но свое лирическое пространство он строит по принципу, сближающему его скорее с Анненским, чем с Ахматовой; причудливо сочетающиеся в этом лирическом пространстве предметные и психологические реалии приобретают иносказательное значение, не теряя своей реальности. В этом пастернаковском мире самые обыкновенные слова могут дорасти до космической грандиозности, и потому, в обход всякой иерархии, - могут писаться с большой буквы:
Тенистая
полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.
...Пусть
степь нас рассудит и ночь разрешит,
Когда, когда не: - В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волчцы по Чулкам Торчали?
'Степь'. 1917
Метафорическое восприятие мира - органическое свойство Пастернака. Особенно это бросается в глаза в его ранней прозе - поскольку там беспрерывно возникающие метафоры не могут быть отнесены за счет природы самой стиховой речи. Метафоричность для Пастернака, как и для Анненского, - выражение всеобщей сцепленности. В то же время метафоричности свойственна дробность; метафорическая речь распадается на отдельные смысловые структуры. Для Пастернака главное не контекст замкнутого стихотворения, но именно эти структуры, живущие своей
322
жизнью и одновременно сливающиеся в большой поток, большой контекст его лирического творчества.
Образность Пастернака - не связь конкретного с абстрактным, чувственного со сверхчувственным; это связь явлений между собой, взаимное истолкование вещей, раскрывающих друг перед другом свои смысловые потенции; поэтому - связь познавательная. В его понимании образность - не столько метод художника, сколько объективное свойство мира человеческой культуры. В 'Охранной грамоте' Пастернак писал о 'силе сцепления, заключающейся в сквозной образности всех ...частиц' мира1. Это - своего рода обоснование семантики раннего Пастернака. Согласно этой концепции мира - все отражается во всем, любая вещь может стать отражением и подобием любой другой вещи, все они превращаются друг в друга, и превращения эти ничем не ограничены.
Там же, в 'Охранной грамоте', Пастернак говорит об искусстве: 'Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело'2. Пастернак здесь, в сущности, формулирует концепцию немецких романтиков, согласно которой метафорические сближения отражали единство природы, магическую одушевленность всех ее элементов. Но специфика Пастернака в том, что романтическую метафоризацию природы он распространил на все, на всю совокупность эмпирических явлений, неодушевленных предметов3, отвлеченных понятий, увлекаемых неудержимым лирическим напором.
1 Борис Пастернак.
Охранная грамота. Л. 1931, с. 87.
2 " Там же, с. 60.
3 О функции "вещей" в лирике Пастернака писал Ю. Н. Тынянов в
статье 1924 года "Промежуток" (Архаисты и новаторы, с. 562-568).
Этот сталкивающий слова со словами, преображающий их значения напор решающе важен для семантики Пастернака. Пастернак не был изобретателем слов - подобно его современникам символистам и футуристам, - он изобретал неслыханные отношения между словами, часто общеупотребительными и заимствованными из разных речевых пластов. В своей автобиографии 'Люди и положения' Пастернак писал: 'Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные. Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее ху-
323
дожника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов... Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща... Все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались'1. Этот лирический цейтнот (у поэта нет 'времени задуматься'), это второпях - неотъемлемые черты эстетики Пастернака, мотивировки чудесных превращений.
Имела значение и первоначальная близость Пастернака к футуризму (группа 'Центрифуги' - Асеев, Сергей Бобров). Футуризм в теории и, главное, на практике действительно допускал любые слова и ничем не ограниченные способы их поэтического видоизменения. Футуризм был последним этапом на пути освобождения поэзии от эстетических запретов. Он подготовил возможность возникновения стихов 'Про эти стихи':
На
тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.
Задекламирует
чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
Но Пастернак не собирался ограничиться экспериментами. Мир его стихов настоятельно требовал указаний на источник своего поэтического смысла. В 'Охранной грамоте' Пастернак рассказывает о том, как он с самого начала, уже в период работы над книгой 'Поверх барьеров', отказался от романтического обоснования своего лиризма образом лирического героя.
1 "Новый мир", 1967, ? 1, с. 211.
'Под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких... Вне легенды романтической этот план фальшив. Поэт, положенный в его основание, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли... Эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего
324
содержания... Когда же явилась "Сестра моя жизнь", в которой нашли выражение совсем несовременные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали'1. 'Несовременные стороны поэзии' - это та связь личности с общим, понимание которой, по словам Пастернака, открыла ему революция. Такое понимание и противопоставлено здесь индивидуалистическим концепциям поэзии предреволюционных десятых годов.
Р. Якобсон, отметив антиромантическуго авторскую позицию Пастернака, утверждает в этой связи, что Пастернак, несмотря на густую метафоричность, - по существу своего миропонимания поэт метонимический, оперирующий сближениями по смежности. '...Отыскать героя трудно. Он распадается на ряд элементов и аксессуаров, он замещен цепью собственных объективированных состояний и вещей, одушевленных и неодушевленных, которые его окружают'2.
Сестра моя жизнь... человек, природа, вещи - все захвачено неудержимой силой жизни, напором жизни, прекрасной в своей материальности:
Несметный
мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в
призме
И радо играть в слезах.
Души
не взорвать, как селитрой залежь.
Не вырыть, как заступом
клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо - и не бьёт стекла.
Поэтические слова душа, слезы, прозаические слова селитра, трюмо - все равноправно в лирическом потоке. Пастернаковские чердаки, антресоли, канапе, лечебные пузырьки и капсюли и все прочее - в качестве прозаизмов уже вовсе неощутимы3. В применении к ним этот термин не имеет смысла, так же
1 Борис Пастернак.
Охранная грамота. Л. 1931, с. 112-113.
2 Notes marginales sur la prose ciu poète Pasternak (статья
1935 г.). Цитирую по изданию: Roman Jakobson.
Questions de
poetique. Paris, 1973, p. 138-139.
3 Это не
мешало Пастернаку понимать значение и
силу будничных слов. Так, впоследствии в
автобиографии он писал о блоковском
Петербурге: '...Он полон повседневной
прозы, питающей поэзию драматизмом и
тревогой, и на улицах его звучит то
общеупотребительное будничное
просторечие, которое освежает язык
поэзии' (с. 214). В другой тональности
говорил об этом Анненский в письме к М.
Волошину: '...Самое страшное властное
слово, то есть самое загадочное, может
быть, именно слово будничное' (А, 1910,
? 4, с. 13).
325
как если б мы стали его применять к словам: дерево, лист, облако, ветер - на том основании, что это конкретные, чувственно воспринимаемые явления.
Как у Анненского, у Пастернака человек, тоже сцеплен с вещами, но совсем не болезненно, не мучительно. Потому что для Пастернака в этой связи есть смысл (о котором тосковал Анненский), смысл принадлежности человека к общей жизни; она и есть несомненная ценность. В оптимистической лирике молодого Пастернака вещи играют в руку человеку, утверждающему -
Что
в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе1.
Пусть это о радостном великолепии конкретного мира - все же дорогу сюда проложили 'мучительные' строки Анненского:
Уничтожиться,
канув
В этот омут безликий,
Прямо в одурь диванов,
В полосатые тики!..
1 Цитирую в ранней редакции, изменённой Пастернаком в 1957 году.
![]()
начало главы
326
'Новая поэзия' конца XIX - начала XX века сделана смелые выводы из задолго до нее начавшегося освобождения лирики от норм и запретов. Поэтам, сложившимся в 1910-е годы, предстояло разобраться в сложном символистическом наследстве, найти свои установки, вступить с этими установками в послереволюционную эпоху. Еще до того как возникло прямое противодействие символизму (футуристы, акмеисты), это направление стало перерождаться в руках поздних своих представителей (Кузмин, Гумилев и другие). Вместо мистики и религиозной философии все большее значение приобретают моменты чисто эстетические, стилизация, экзотика, - тем самым возрождаются отчасти установки раннего Брюсова. Для молодой литературы 10-х годов характерно стремление вернуться к земному источнику поэтических ценностей.
Опыт поэзии конца XIX - начала XX века определил многое не только для акмеистов, признававших свою преемственную связь с предшественниками, но и для футуристов, провозгласивших отрицание всякой вообще преемственности. Резкая ощутимость и потому эмансипация специфических средств стиха (размер, рифма, ритмико-синтаксические отношения, звуковая организация и т. п.), совмещение отдаленнейших смысловых рядов, невозбранно разрастающиеся метафоры, возведенная в принцип многозначность слова - все это символизм предложил тем, кто пришел ему на смену, и пришедшие па смену разрабатывали эти начала с еще большим максимализмом.
Быть может, самым активным элементом символистического наследства явилась напряженная ассоциативность поэтического слова. Ученики символистов отбросили второй, 'сверхчувственный' план, но осталось поэтическое открытие повышенной суггестивности1 слова, то есть способности его вызывать неназван-
1 Суггестивный - от французского suggestion (внушение). Говорю о повышенной суггестивности, потому что в той или иной мере суггестивно всякое поэтическое слово, никогда не означающее только то, что оно называет.
327
ные представления, ассоциациями замещать пропущенные звенья.
Б.В. Томашевский определяет суггестивность как возможное значение: '...Привычка наша к определенным лирическим связям дает возможность поэту путем разрушения обычных связей создавать впечатление возможного значения, которое бы примирило все несвязные моменты построения. На этом построена так называемая "суггестивная лирика"'1.
Понятно, что развитию 'суггестивной лирики' способствовал и импрессионизм с его поэтикой разрозненных впечатлений, и символизм с его принципиальной двупланностью. Русские символисты по-разному понимали природу символа. Ранний Брюсов видел в нем шифр душевных состояний. Белый требовал от символов сложных метафорических изменений мира, связанных с глубинной, мистически понимаемой жизнью слова. Вячеслав Иванов, отрицая связь символа с метафорой, утверждал, что все явления жизни и искусства потенциально подлежат символической трактовке. Недаром в статье 1923 года Мандельштам, иронизируя над 'мистикой повседневности', назвал символизм эпохой, 'когда половой, отраженный двойными зеркалами ресторана "Прага", воспринимался как мистическое явление'2.
При всех, однако, толкованиях символ включал в себя подразумеваемое, неназванное значение; он был суггестивен. Когда неназванное теряло свою 'потусторонность', оставался тот 'ассоциативный символизм', который Вячеслав Иванов осуждал в поэзии Анненского и в поэзии Малларме, утверждая, что этот символизм заставляет мысль, 'описав широкие круги', опуститься 'как раз в намеченную им одну точку'3.
Малларме, как поэт и как теоретик, довел до крайности доктрину расчета на читательскую апперцепцию. В заметках, озаглавленных 'Кризис стихов', он говорит о литературных школах, которые отказываются от 'природных материалов и от упорядочивающей их - слишком грубой - точной мысли. Они стремятся установить связь между точными изображениями, с тем, чтобы те выделили из себя некий третий образ, расплывчатый и прозрачный, предоставленный разгадыванию'4.
1 Б. Томашевский.
Теория литературы. М.-Л., 1930, с. 189.
2 "Красная новь", 1923, ? 5, с. 399.
3 Вячеслав
Иванов. Борозды и межи, с. 157.
4 Stéphane Mallarmé. Oeuvres complètes.
Paris, 1945, p.
365.
328
В русской поэзии начала XX века повышенная ассоциативность предстает и в метафорической и в неметафорической форме. Трансформация первичного, лежащего в основе метафоры сравнения становится все более разорванной, противоречивой, многоступенчатой. А наряду с этим суггестивность другого рода: сближение представлений, которые не сплавляются в метафору, остаются сами собой, но в своем сцеплении порождают новые, неназванные смыслы. Таков, например, метод Ахматовой. И этот новый тип связей между вещами глубоко перестраивает в ее поэзии наследие XIX века.
Анненский даже к Гомеру подошел с критериями своего 'ассоциативного символизма'. В незавершенной статье 'Что такое поэзия?' он писал: 'Я вполне понимаю, что и каталог кораблей был настоящей поэзией, пока он внушал. Имена навархов, плывших под Илион, теперь уже ничего не говорящие, самые звуки этих имен, навсегда умолкшие и погибшие, в торжественном кадансе строк, тоже более для нас непонятном, влекли за собою в восприятиях древнего Эллина живые цепи цветущих легенд, которые в наши дни стали поблекшим достоянием синих словарей, напечатанных в Лейпциге. Что же мудреного, если некогда даже символы имен под музыку стиха вызывали у слушателей целый мир ощущений и воспоминаний, где клики битвы мешались со звоном славы, а блеск золотых доспехов и пурпуровых парусов с шумом темных Эгейских волн?.. Итак, значит, символы, то есть истинная поэзия Гомера, погибли? О нет, это значит только, что мы читаем в старых строчках нового Гомера, и ''нового", может быть, в смысле разновидности "вечного"'1.
Анненский выразил здесь сознание, для которого читательское восприятие, читательское 'разгадывание' текста стало существеннейшим эстетическим фактором. И читательскую апперцепцию он трактует не как узко личную и случайную, но как общезначимую и эпохальную - идет ли речь о древних эллинах или о людях современного большого города.
Ассоциативность творчества и ассоциативность восприятия заложены в самом существе поэзии. Но значение их неуклонно возрастало вместе с индивидуализацией контекста. Поэзия устойчивых стилей давала заранее смысловой ключ к своему словесному материалу. 'Новая поэзия' возложила эти функции на читателя.
1 А, 1911, ? 6, с. 54.
329
Процесс этот в конечном счете привел к возникновению понятия подтекст и к злоупотреблению этим понятием. Граница между текстом и подтекстом неопределима. Вся специфика поэтической речи - ассоциативность, обертона, отношения между смысловыми единицами, даже реалии, житейские и культурные, необходимые для понимания смысла, - все грозит провалиться в подтекст. Что же тогда остается на долю текста - слова в их словарном значении? Очевидно, надо говорить не о подтексте, но о тексте в его реальном семантическом строении, о контексте, определяющем значение поэтических слов.
Возможно разное восприятие, разное толкование этих, значений. Это закономерно. Такова природа поэтического слова с его многозначностью и колеблющимися признаками. Впрочем, возможности понимания поэтического текста вовсе не безграничны, - безграничны возможности непонимания.
В поэзии особое соотношение между сказанным и подразумеваемым, названным и внушенным существовало всегда, но разное в разные времена и в разных художественных системах. 'Новая поэзия' конца XIX - начала XX века осознала и заострила эти соотношения. Психологический и 'ассоциативный' символизм Анненского послужил отправкой точкой для ряда поэтов послесимволистической поры.
Особый теоретический интерес представляет в этом плане поэзия Мандельштама.
<...>
![]()
278
Символизму повседневность давалась лишь в известных своих аспектах. Происходил литературный отбор, и явления действительности проникали в эту систему только по определенным каналам.
В статье 'О современном лиризме' Иннокентий Анненский писал: 'Символизм в поэзии - дитя города. Он культивируется и он растет, заполняя творчество по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее... Символам просторно играть среди прямых каменных линий, в шуме улиц, в волшебстве газовых фонарей и лунных декораций. Они скоро осваиваются не только с тревогой биржи и зеленого сукна, но и со страшной казенщиной какого-нибудь парижского морга и даже среди отвратительных по своей сверхживости восков музея'1.
Анненский намечает те смысловые гнезда, к которым тяготеет предметная символика урбанизма. О том же говорит и Блок в своей рецензии на брюсовского Верхарна: 'Он поет народного трибуна и города, хватающие щупальцами и пожирающие народ, ноябрьский ветер и вольную деву на перекрестке с "черными лунами зрачков". Мертвые числа, сама смерть, народные мятежи и кровавые казни, море, где, "как яркие гроба, - вдали спят золотые корабли", и Лондон, где "чудища тоски ревут по расписаньям" в едком дыму вокзалов, и в дождевых лужах, озаренные фонарями, мелькают, "как утонувшие, матросов двойники" - все равно цветет в его душе'.
Высказывания Анненского и Блока дают представление о процессе превращения слов внестилевых, непривычных, непредрешенных в своем смысловом движении в устойчивые атрибуты урбанистического стиля. Подобные превращения угрожают и самым свежим прозаизмам, если они теряют контакт с реальностью.
1 А, 1909, ? 2, с. 3.
![]()