Открытие: 20.09.2011
Обновление: 30.05.2024
Два источника стихотворения И. Ф. Анненского 'Тоска маятника'
![]()
Два источника стихотворения И. Ф. Анненского 'Тоска маятника'
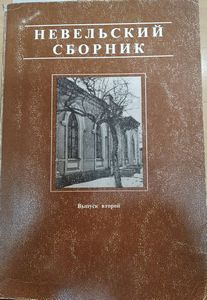 Источник текста:
Невельский
сборник. Выпуск 2. К столетию М. В. Юдиной. По материалам Третьих Невельских Бахтинских чтений (1-4 июля 1996 г.). СПб.: 'АКРОПОЛЬ', 1997.
С. 101-114.
Источник текста:
Невельский
сборник. Выпуск 2. К столетию М. В. Юдиной. По материалам Третьих Невельских Бахтинских чтений (1-4 июля 1996 г.). СПб.: 'АКРОПОЛЬ', 1997.
С. 101-114.
101
Предмет моего сообщения - стихотворение Иннокентия Анненского 'Тоска маятника', первого в трилистнике 'Из старой тетради' (сб. 'Кипарисовый ларец', вышел в 1910 г.). Само заглавие трилистника - своего рода ключ к стихотворению, хотя и не к его предметной ситуации. Вряд ли под 'старой тетрадью' Анненский имел в виду одну из реальных четырех тетрадей, хранившихся в кипарисовом ларце; да и хронологически ни одну из них нельзя назвать 'старой'. Самый состав трилистника (два других стихотворения: 'Картинка' и 'Старая усадьба') заставляет читать его заглавие не буквально. Во всех трех сюжетах за случайностью субъективной дорожной ситуации лежит некая скрытая 'сущность события', для которой ситуация есть лишь одна из форм проявления. В этом смысле 'старой тетрадью' может оказаться и чей-то давний поэтический текст со сходной ситуацией, но уже по-другому прочитанный (общеизвестна эстетическая позиция Анненского: 'само чтение поэта есть уже творчество'1. Именно в этой связи мне и хотелось бы обратиться к первому из стихотворений, к 'Тоске маятника', и сопоставить его со стихотворением А. К. Толстого 'Что за грустная обитель...', которое и было одним из текстов, определивших для Анненского название его трилистника.
В одном из писем к своей постоянной корреспондентке Е. Мухиной в начале марта 1908 г. Анненский, скорее всего, по ее просьбе, высказывал свои мысли о современной поэзии как он ее понимал:
'Определительная роль поэтической речи <курсив мой. - В. Г.> и власть слов только что начинают выясняться. Фантом творческой индивидуальности почти исчерпан. Но люди упорно <...> чествуют "гениев" <...>. Позвольте мне не развивать мыслей о том, как центр чудесного должен быть перемещен из разоренных палат индивидуальной интуиции2 в чащу коллективного мыслестрадания, в коллизию слов, с ее трагическими эпизодами и тайной' (КО, 477).
102
Анненский, по-видимому, собирался писать на эту тему статью - и, может быть, не одну, о чем косвенно упоминает в этом письме - но не успел3. Я приведу несколько сходных по мысли с цитируемым выше письмом мест из черновика доклада Анненского 'Об эстетическом критерии'. Выступая против практики современного искусства, по-своему продолжающего романтические установки на новый индивидуализм, на исключительно и только субъективное слово, Анненский выдвигает иное понимание поэта и поэтического слова:
'Но неэстетично поддаваться течению, смешон этот культ истерии, именуемый религией гордого человека. У меня ничего как у писателя нет: язык и мысль общие - нет, даже не так - я ответственный носитель общего достояния' (л. 12). 'Не расширять личность, а повышать и усовершенствовать тип человека - вот задача писателей' (л. 13 об.). 'Слово есть достояние вида <курс ив мой. - В. Г.>, ему оно должно и служить сенсуально и интеллектуально. <...> У личности ничего нет, это принадлежит мне по недоразумению, т. е. связано до того тесно с наследьем, средой, словами <...> Это не я, не центр, а лишь более яркое проявление, более счастливая случайность среди обездоленных' (л. 24 об.).
Вместе с тем эти свои мысли он так или иначе высказывал уже в более ранних своих работах и стихотворениях: отчетливей всего в статье 'Бальмонт-лирик' и в стихотворении 'Мой стих'. Вот краткое положение из статьи, разъясняющее стихотворение Бальмонта 'Я изысканность русской медлительной речи':
'Стих не есть создание поэта, он даже, если хотите, не принадлежит поэту. <...> Я поэта проявило себя <...> лишь тем, что сделало стих изысканно-красивым. Медленность же изысканной речи уже не вполне ей принадлежит, так как это ритм наших рек и майских закатов в степи. Впрочем изысканность в я поэта тоже ограничена национальным элементом и, может быть, даже в большей мере, чем этого хотелось бы поэту: она переносит нас в златоверхие палаты былинного Владимира. <...> А разве не тот же призыв к изысканности в пушкинском лозунге "прекрасное должно быть величаво" <...> Разве все это не та же изысканность только еще не названная?' (КО, 99).
Для Анненского, таким образом, субъективному поэтическому стиху всегда предзадана определенная форма, связанная с тем, что можно определить как стихию русской речи, ее звуковой, ритмический и лексический облик, обрастающий культурно-психологически-
103
ми ассоциациями, самый характер сложившихся связей слова с предметом и с другими словами. И все это, создающее колеблющуюся символику слова, является для Анненского определителем характера стихотворения в гораздо большей степени, чем субъективная интуиция поэта4.
Рядом с декларативными высказываниями о природе поэтического стиха можно поставить их как бы поэтическую иллюстрацию, при всей неточности сказанного. 'Мой стих' начинается двумя строками:
Недоспелым поле сжато,
И холодный сумрак тих... -
тема которых тут же и оборвана, так что они представляются мало относящимися к последующему развитию поэтической ситуации. Они скорее некий камертон, по которому и выстраивается последующий текст, с лежащей в его основе предметно-психологической реалией, могущей быть обозначенной как: мысли о смерти, приходящие к человеку в сумерках, в виду надвигающейся ночи и при воспоминании об отошедшем дне. Следом за этими двумя как бы брошенными строками у Анненского идет своего рода комментарий к сказанному выше, который в то же время является началом собственно поэтического сюжета в этом стихотворении:
Не теперь, давно когда-то
Был загадан этот стих.
В качестве комментария эти строки представляют первое двустишие как некую цитату, начало давно загаданного стиха, продолжением которого, а точнее, переживанием которого и становится лирический сюжет стихотворения, заканчивающийся уверением в его 'ничейности': 'Не грусти, он был ничей'. И дело даже не в том, является ли первое двустишие 'цитатой' из самого Анненского, строкой из какого-то давно задуманного им стихотворения, или же за строками этими скрыта цитата из чьей-то поэзии. Гораздо важнее то, что первые две строки даются в качестве 'цитаты' как таковой, и речь здесь идет о некоем предсуществовании, предзаданности стиха поэту. Принцип субъективного лирического сюжета состоит в том, что ему предшествует какая-то объективная речевая действительность, которой он может определяться в такой же степени, как
104
и личной интуицией Причем имеется в виду не только предзаданность формы, но и в большой степени предзаданность состояния: 'Пусть подразнит, - говорится у Анненского, - мне не больно; // Я не с ним, я в забытьи... // Мук с меня и тех довольно, / Что, наверно, все мои...' Стих рождается из воспоминания - воспоминания 'своего' и 'чужого'. И вот в контексте этого воспоминания 'чужого', в контексте этой предзаданности и следует, по-моему, рассматривать стихотворение А. К. Толстого в отношении к стихотворению Анненского, дли которого оно вполне бы могло называться 'Мой стих'.
Анненский часто любил обрабатывать сюжеты, уже имеющиеся в обиходе поэзии. Известно его 'переложение' стихотворения Апухтина 'Мухи, как мысли', получившего у него название 'Мухи-мысли'. Оно демонстративно исполнено якобы в рамках первоначальной схемы сравнения, но, по сути, в совершенно невозможных для Апухтина технике и способе эмоционально-интеллектуального сцепления мира вещей и эмоций. 'Тоска маятника' тоже имеет литературный источник, и даже не один, и к ним-то мы теперь и обратимся.
Одним из источников стихотворения является лирическая пьеса А. К. Толстого 1859 г. (вот, по-видимому, откуда 'старая тетрадь') без названия и по первой строке читающаяся: 'Что за грустная обитель...'5. Для наглядности привожу оба этих текста рядом.
И. Анненский
|
А. К. Толстой
|
105
|
|
Несколько слов, касающихся текстологии стихотворения Анненского. Речь идет об одном слове в первой строчке: 'Неразгаданным надрывом // Подоспел сегодня срок', которое в издании 'Библиотеки поэта' 1990 г. (и в издании 'Кипарисовый ларец' того же года под ред. Н. Богомолова) читается как 'надрывам', что существенным образом меняет характер информации. Новое прочтение кажется убедительным только в связи с ожидаемым в языке лексико-синтаксическим обликом высказывания. Однако я не стал бы настаивать на правильности такого прочтения. Во-первых, привычное языковое ожидание и поэтический язык не всегда совпадают; во-
106
вторых, для всякого, кто знаком с почерком Анненского, очевидно, что разница между 'о' и 'а' может быть в его случае предметом интерпретации. Кроме того, в одном из списков этого стихотворения, содержащем правку самого Анненского (РГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 23) это место читается как 'надрывом' и не исправлено автором. Наконец, подобная 'неясность' вообще представляет собой характерный для поэта прием умышленного двойного грамматического чтения. Достаточно вспомнить начало стихотворения 'Лунная ночь в исходе зимы': 'Мы на полустанке, // Мы забыты ночью...', где 'ночью' может быть понято и как агент происходящего (кем) и как указание на время действия (когда). Да и вообще, зачем далеко ходить за примерами; само название 'Тоска маятника' имеет право на двойное чтение: как тоска самого предмета и как тоска, наводимая предметом на человека (тоска от предмета).
Если читать первую строку у Анненского как 'неразгаданным надрывам', смысл ее сводится к тому, что пришло время 'неразгаданных надрывов'; если же читать это в единственном числе ('Неразгаданным надрывом // Подоспел сегодня срок'), тогда мы имеем дело с перифразой, центральным для Анненского приемом, возвращающей нас к предметной реалии вечера и к сюжетной ситуации 'пора спать'. 'Надрыв' - слово из Достоевского, оно задает характеристику сюжета в плане психического состояния, но в предметном плане оно отмечает рубеж, надрыв дня: промежуток времени между тем, когда человек бодрствует, и тем, когда он спит. Точнее всего у Анненского это состояние, отмеченное особым временем, может быть выражено как 'полусон'-'полусознанье'.
Ситуация стихотворения характерна для поэзии Анненского: замкнутое внутреннее пространство, чаще всего комната, в сумерки или бессонную ночь, когда человек мучительно пытается и не может заснуть. Состояние бессонницы и является тем перерывом времени, тем его 'надрывом', о котором говорится в начале стихотворения. День, дневное состояние представляет собой периферийную для 'хронотопа' Анненского область; чаще всего не в этой области мучительно ищутся героем его лирики разгадки и ответы на терзающие его вопросы. Поэтому прочтение, предполагающее, что конец дня наступил как неразгаданный надрыв, разгадка которого и будет искаться в ситуации ночной бессонницы, кажется мне убедительней, чем чтение, при котором наступление ночи видится как приход времени неразгаданных надрывов. При этом в единственном числе
107
'неразгаданным надрывом' читается как творительный падеж (в отличие от дательного, если читать фразу во множественном числе), и у Анненского этот вид творительного падежа я обозначил бы как 'творительный отождествления': это не наделение 'срока' сравнением (как 'неразгаданный надрыв'), но их полная отождествляемость (таким творительным отождествления любил широко пользоваться Пастернак). Тем более, что две последние строки первой строфы ('В стекла дождик бьет порывом, // Ветер пробует крючок') Анненский вводит после двоеточия: знака, указывающего на то, что последующее развитие высказывания является раскрытием содержания предшествующего. То есть дождик, бьющий порывом в окна, и ветер, который пробует крючок, и есть предметные эквиваленты того 'срока' или того 'надрыва', о котором говорится вначале. И даже само сопоставление фонетико-грамматических форм: срок наступил 'неразгаданным надрывом' / дождик бьет в стекла 'порывом' - тоже свидетельствует о желании автора видеть в этих явлениях некую тождественность.
Об А. К. Толстом Анненский пишет в статье 'Бальмонт-лирик': 'Говорить ли о судьбе Алексея Толстого, которого начинают понимать лишь через 30 лет после его смерти' (КО, 95). А. Толстой умер в 1875 г.; в момент написания статьи (приблизительно датируется 1904 годом) со дня его смерти прошло 29 лет. Анненский говорит о том, что Толстого начинают понимать только сегодня. У самого же Анненского пристрастие к Толстому и близкое знакомство с ним более давние. Когда он отмечает роль А. К. Толстого (наряду с такими поэтами, как Фет и Апухтин) в формировании 'болезненной чувствительности' поколения 80-х годов, он не исключает из их числа и себя самого.
Существуют и прямые влияния этого поэта на юношескую поэзию Анненского: отголоски лирических пьес Толстого и хоров из 'Дон Жуана' мелькают в ранней поэме Анненского 'Магдалина', о поэтике которой он ретроспективно признавался в поздней автобиографии: '<...> так как в те годы (70-е) еще не знали слова символист, то был мистиком в поэзии' (КО, 495). Кроме того, о поэзии Толстого молодой еще Анненский написал целую статью ('Сочинения гр. А. К. Толстого, как педагогический материал', 1887). О 'принципиальном идеализме' Толстого Анненский тогда говорил:
'Мир является для него <...> бледным отражением идеала, живущего в небе. Тем с большей жадностью ловит поэт в мире от-
108
блеск вечной красоты: он ищет его и в природе, и в человеческой душе' (Воспитание и обучение. 1887. Авг. ? 8. С. 182).
Поэзия А. К. Толстого в самом деле могла быть для Анненского той как бы полученной в собственность 'старой тетрадью', тексты из которой существовали уже как нечто предзаданное его собственным стихам. В этом прежде всего и следует видеть смысл 'перечитывания' стихотворения Толстого. Для Анненского здесь важно не только сходство предметной (дорожной) ситуации, но и самой 'сущности события', уже имеющего определенный речевой облик. Собственный его стих уже не может не находиться в зависимости от этого облика, являясь лишь интерпретацией этой сущности.
Сходство стихотворения Анненского с пьесой А. К. Толстого очевидно уже при первом чтении. Есть детали, фиксирующие это сходство, прямо перешедшие из стихотворения Толстого, хотя их предметно-тематическая перспектива уходит еще дальше - к Тютчеву, к Пушкину: бессонница, часы, свеча, чуткость по отношению к внешнему пространству, в котором звуки воспринимаются с замиранием сердца, мучительно. 'Маятник', который у Толстого 'стукнет вправо, стукнет влево', у Анненского 'ходит-ходит, вдруг отскочит'. 'Пес', который 'далеко' лает у Толстого, тоже не забыт Анненским: у него 'конь', 'где-то' тяжко переступающий по соломе. Есть у Толстого и состояние неотчетливости сознания: 'наяву я иль во сне', которое для Анненского становится вообще одним из центральных мотивов его 'бессонниц'. Перешел от Толстого к Анненскому и напев изображаемого состояния, его интонация, дающая о себе знать не только в 4-стопном хорее с чередующимся мужским и женским способом рифмовки, но и в наделении предметов сходной функцией. У Анненского можно найти и внимательное обыгрывание толстовского текста: 'Что за грустная обитель, // И какой знакомый вид' у Толстого; 'Неразгаданным надрывом // Наступил сегодня срок' у Анненского, хотя у последнего конфликт вызревает не из навязываемой предметной реальности, а как конфликт сугубо внутренний. В этом существенное различие двух стихотворений. Есть и другие переигрывания текста Толстого в стихотворении Анненского. У Толстого маятник своим ходом 'будит мыслей длинный ряд', а у Анненского 'волочит немую тень'. Эта 'немая тень', которая предметно совершенно точно фиксирует движение предмета с падающим на него светом горящей свечи, вместе с тем есть и тень воспоминаний, пробуждающихся в сознании. Переигры-
108
вание это интересно тем, что позволяет яснее видеть разницу поэтики двух авторов. У Толстого - прямой ход мысли: нечто вызывает в сознании определенные мысли, и он об этом говорит в декларативной форме. У Анненского по-другому: предметное и психологическое настолько 'сцеплены', что каждый из этих рядов нужно декодировать в другом. У Анненского ход мысли не прямой, а через предмет.
Толстой в стихотворении рисует некую 'дурную бесконечность' предметного мира (в чем-то уже предвещающую блоковское: 'Ночь. Улица. Фонарь. Аптека') и душу, тоскующую и захваченную этими нелепыми и бессмысленными повторами явлений. Дуализм идеального и земного, о котором писал Анненский в своей статье о Толстом, проявляется в этом стихотворении в своем ироническом варианте: в неизбежно повторяющейся картине, застывающей в эмблему, воплощена в перевернутом виде платоновская 'чистая идея' как чистая идея предметного мира, грозящая стать навязчивым образом существования. Отсюда еще далеко до эмблематичности Достоевского, до его 'банки с пауками', но возможность этой последней очевидно присутствует. Во всяком случае для Анненского, который прошел школу Достоевского, эта эмблематичность гораздо более отчетлива. Стоит вспомнить его предпоследнюю строфу:
Все потухло. Больше в яме
Не видать и не слыхать...
Только кто же там махать
Продолжает рукавами? -
чтобы ощутить явный намек на возможность перенесения ситуации уже в вечность. Вместе с тем сходная поэтическая ситуация с ее предметной заставленностью, которую Анненский взял из 'старой тетради', отмечена у него и принципиально иной точкой зрения. У Толстого мир изначально навязан сознанию в своей нелепой эмблематичности. Анненский мог прочитывать в этой лирической ситуации и иной ее аспект, когда миру изначально навязано ожидаемое от него сознанием, когда он просто превратился в эмблему состояния сознания. Это прочтение сходного лирического сюжета он и положил в основу своего стихотворения. Сам он мучительно пытался преодолеть такое двойничество сознания и мира, что часто должно было казаться ему невозможным. Но эта невозможность и
110
становится сюжетом его стихотворения: это осознание, что вещи превращаются в простые эмблемы сознания и, таким образом, сущности их оказываются не более чем проекцией нашего сознания. Воспоминание о возможности иного представления о мире, который бы не был двойником нашего сознания, связано для Анненского с другим, тоже 'дорожным', но уже тютчевским текстом, влияние которого также заметно в 'Тоске маятника'. Я имею в виду стихотворение Тютчева 'Чародейкою Зимою...', датированное 31 декабря 1852 г.:
Чародейкою Зимою
Околдовав, лес стоит -
И под снежной бахромою.
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой -
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой -
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
У Тютчева сказочный мотив спящего леса ложится прямо на контуры знакомого сюжета 'спящей красавицы'. Мифологичность его образов ищет себе опоры в этой сказочной канонизированности, неслучайности, несубъективности. 'Чудная жизнь', 'красота' у Тютчева представлена в каком-то отдалении от субъекта; восприятие здесь отвердевает и отделяется от воспринимающего. Тютчев говорит о красоте 'чудной жизни' природы, которой человек любуется, забывая о себе. Она вся предстоит сознанию завершенной, замкнутой в себе как созерцаемое ценностное бытие.
Самый характер сюжета 'Тоски маятника' не позволил бы Анненскому внести в него ни одну из предметных реалий тютчевского стихотворения. Вместе с тем на присутствие его в своем тексте он определенно указал. Стоит сравнить тютчевское 'И стоит он, околдован' и аннен<с>ковское 'И лежу я околдован', и несомненность ци-
111
тирования станет очевидной. При этом сразу выделены два существенно разных акцента: у Тютчева 'он', у Анненского 'я'.
На фоне тютчевского сюжета у Анненского как раз и переживается эта невозможность реальности быть ценностно самостоятельной для сознания. Только так и можно понять строки:
И лежу я околдован.
Разве тем и виноват,
Что на белый циферблат
Пышный розан намалеван.
Это сознание, испытывающее вину вмешательства, внесения в ценностное бытие своих субъективных переживаний, страхов, мучительного индивидуального опыта:
Тело скорбно и разбито,
И его волнует жуть.
Что обиженно-сердито
Кто-то мне не даст уснуть.
Тут описано очень простое психологическое состояние: человек устал, но не может уснуть, потому что его мучает страх, что он не сможет заснуть, и вот он не спит от собственного страха. Эта боязнь, фиксация состояния на предмете, и составляет сюжет стихотворения Анненского. У Тютчева есть стихи о том, как человек спит и видит сны, и как в этих снах он роднится с мировой жизнью. У Анненского же - человек не может уснуть, и мир видится ему отражением его собственных страхов. И это важная тема психологического повествования: человек, мучимый собственными страхами и которому реальность, таким образом, предстает его собственным 'двойником', двойником сознания. В стихотворении у него, по сути, биение сердца проецируется на ход маятника и в конце концов предстает его полным аналогом в предпоследней строфе. И внешний мир мучает и терзает поэта в отместку за тот страх, которым он сам наделяет этот мир.
В лирике Анненского и повествуется часто о том, как мучительно не дано душе выйти за пределы своего субъективного бытия, единственным смыслом которого является смерть. На этой невозможности, по существу, строятся философские, если можно их так обозначить, основы его лирики. Стихотворение Тютчева,
112
вероятнее всего, виделось Анненскому в свете темы 'безжеланности', к которой сам он часто обращался и в стихах и в эстетических своих работах. Сформулирована она у него в статье 'Юмор Лермонтова':
'Сколько надо было иметь ума и сколько настоящей силы, чтобы так глубоко, как Лермонтов, чувствуя чары лунно-синих волн и черной паутины снастей на светлой полосе горизонта, оставить их жить, светиться, играть, как они хотят и могут, не заслоняя их собою, не оскорбляя их красоты ни эмфазом слов, ни словами жалости, - оставить им все целомудренное обаяние их безучастия, их особой и свободной жизни, до которой мне, в сущности, нет решительно никакого дела' (КО, 138).
И о том же - в черновиках к статье 'Читатель без воображения' (РГАЛИ, ф. 6, ед. хр. 183):
'Люди и вещи Лермонтова не казались еще его созданиями, его эманациями. Он рассказывал о том, что было, и только рассказывал' (л. 3).
Эту тему 'безжеланности', отказа в поэзии от индивидуальной воли, от навязывания миру собственных переживаний Анненский и в стихах развивал на лермонтовском материале, на одном лермонтовском мотиве: 'Я б хотел забыться и заснуть, // Но не тем холодным сном могилы...' - из стихотворения, которое он перифразирует все в той же статье 'Юмор Лермонтова':
'Оттого-то я люблю тишину лунной ночи, так люблю и так берегу тишину этой ночи, что, когда одна звезда говорит с другой, я задерживаю шаг на щебне шоссе и даю им говорить между собою на недоступном мне языке безмолвия' (КО, 140).
Этот лермонтовский мотив тянется у Анненского через всю его поэзию, уже с ранних его стихов. Ср.: 'Если б заснуть, // Но не навеки...' ('Падает снег'); 'Когда б не смерть, а забытье...' (первая строка стихотворения без заглавия). В 'Тихих песнях', в цикле 'Лилии', есть вариация этой темы: 'А ты, волшебница, налей // мне капель чуткого забвенья' ('Падение лилий'). 'Забвение' есть, таким образом, состояние внутренней отрешенности от своей судьбы и 'воли' (ср.: 'Ни о чем не жалеть... Ничего не желать...' - 'На воде'). Можно также вспомнить стихотворение Анненского 'Электрический свет в аллее', построенное на мотивах пушкинского 'Заклинания', смысл которого заключается как раз в страхе сознания воплотиться в ин-
113
дивидуальную судьбу: в стремлении к 'забвению'. Ср. также связанность этой темы для Анненского с мотивами 'блаженной' беспредельности 'дремлющего мира' у Тютчева, которые Анненский так часто психологизировал6.
Конец лирического сюжета 'Тоски маятника' нс является абсолютным. В нем ощутима некая временная передышка: до завтра, до следующей подобной же бессонницы. Стоит спроецировать этот конец на конец 'оригинала', то есть стихотворения Толстого, и в нем обнаружится такая же потенциальная возможность к бесконечному повторению, какая рисуется у Толстого.
Не исключено, что Анненский имел в виду такое чтение своего стихотворения, при котором оно ложилось бы тенью на текст-первоисточник. В этой связи мне хотелось бы добавить к разбору стихотворения Анненского следующее. В одном из своих докладов (находится в печати)* я выдвинул гипотезу о существовании в поэзии Анненского 'вариантов', то есть текстов, которые, представляя собой совершенно самостоятельные лирические пьесы, в то же время являются 'вариантами' какого-то первотекста - или реально существующего, или идеально-мыслимого. Мне кажется, что и в данном случае Анненский вполне мог рассматривать свое и толстовское стихотворения как некие 'варианты' первотекста, определяемого предметно-тематическими границами 'бессонницы'. Вариативность эта могла им мыслиться в рамках его понимания эстетики новой поэзии, которое было рассмотрено выше и которое находило самое разнообразное выражение в его поэтическом творчестве. Один из примеров - переводы Анненского, в которых сказываются поиски им генетически родственного поэтического материала. Идея 'перевода' в таком контексте утрачивает четкость границ, отделяющих последний от оригинального творчества. Образцом такого рода усвоения чужого текста может служить 'Il pleure dans mon cæur' Верлена, в переводе Анненского - 'Песня без слов'. На этом переводе Анненский не остановился. Он пишет стихотворение 'Октябрьский миф', которое, безусловно, можно считать как бы 'вариантом' верленовского. Кстати, в составе первого своего сборника, в первоначальном виде названного 'Из пещеры Полифема', Анненский предполагал полностью перемешать переводы и собственную лирику в качестве однородного материала. Причем сборник должен был быть издан под 'безличным' именем 'Никто'.
* Скорее всего речь идёт о статье, см. ниже: 'Интенсивный метод' в поэзии Анненского. (Поэтика вариантов: два 'пушкинских' стихотворения в 'Тихих песнях').
В. Е. Гитин (Кембридж, США )
114
Примечания
1 Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 5. Далее в тексте и примечаниях ссылки на это издание: КО, страница.
2 Эта мысль развита у Анненского в статье 'Юмор Лермонтова': 'Право же успокоительно думать, что еще так недавно люди умели любить жизнь, не размыкиваясь по ней до полной вымороченности, до того, что у них нет уже ни одного личного ресурса, кроме того, что каждый боится именно своей смерти' (КО, 138). Впрочем, есть и еще более ранний вариант все той же мысли, восходящей еще ко времени написания им 'Господина Прохарчина' (в подтексте ее - существенное для Анненского противопоставление Достоевского Чехову): '<...> но я люблю и до сих пор перечитывать эти чадные, молодые, но уже такие насыщенные мукой страницы ["Господина Прохарчина"], где ужас жизни исходит из ее реальных воздействий и вопиет о своих жертвах, вместо того, чтобы. как в наше время, навеваться шумом деревьев, криками клубных маркеров или описками телеграфистов и отобщать каждого из нас от всего мира, - призраком будто бы лично ему и только ему грозящей смерти' (КО, 35).
3 Из сохранившихся в его бумагах набросков и конспектов (некоторые были прочитаны как доклады) можно указать на следующее: 'Об эстетическом критерии' (РГАЛИ , ф. 6, ед. хр. 160), 'Поэтические формы современной чувствительности' (ед. хр. 168), 'Поэзия - искусство' (ед. хр. 171), 'Наброски о поэзии' (ед. хр. 172), 'Об искусстве' (ед. хр. 173). Эти мысли Анненский предполагал изложить в третьей части последней своей статьи 'О современном лиризме', которая должна была называться 'Оно', то есть искусство, но этой части никогда не написал.
4 В связи с этим укажем на один из приемов Анненского: строить образ на материале речи, выступающей уже в качестве денотата поэтического слова, рядом с предметным денотатом. Я назвал бы этот языковой денотат 'речевой темой'. Поясню сказанное примером. В 'Ненужных строфах', импрессионистически точно описывая горящий в камине огонь, названный здесь Аполлоном, принимающим жертву, Анненский скажет так: 'Он улыбается, он руки тянет к ним'. Поэтическая реалия тянущихся рук целиком построена на принципе восприятия, по аналогии с предметом: удлиняющиеся и укорачивающиеся языки пламени визуально создают иллюзию протягиваемых рук. Что же касается выражения: 'он улыбается', - оно построено на смешении предметного плана и речевой темы, даже двух речевых тем: 'озаренные огнем' (это о стенах при вспышке огня) и 'озаренные улыбкой' (это о лице). У Анненского, как позднее у Пастернака, построение образа на основе 'речевой темы' является отличительным свойством поэтики.
5 На это указал А. О. Кушнер в статье 'О некоторых истоках поэзии И. Анненского' PDF (в кн.: Иннокентий Анненский и русская культура XX века. СПб., 1996).
6 Кстати, этот мотив вины перед миром субъективного сознания очень хорошо понял в стихотворении Анненского Пастернак и повторил его в 'Мухах мучкапской чайной', почти цитируя, только уже с осознанием полного превосходства мира над 'я': 'Ты зовешь меня святым, // Я тебе и дик и чуден? // А глыбастые цветы // На часах и на посуде?'
![]()
"Интенсивный
метод" в поэзии Анненского
(Поэтика
вариантов: два "пушкинских" стихотворения в "Тихих песнях")
 Источник текста:
Русская литература, ? 4, 1997. С. 34-53.
Источник текста:
Русская литература, ? 4, 1997. С. 34-53.
34
Лев Пумпянский в статье 1928 года о Тютчеве определил характер его поэтики как интенсивный метод: 'Таков обычный метод работы Тютчева, метод, который следует назвать, интенсивным в точном, неразговорном смысле этого слова в противоположность экстенсивному методу работы Пушкина, направленной на завоевание все новых областей - жанровых, тематических и стилистических. Интенсивная поэтическая работа, напротив, сравнительно рано и более или менее сразу находит свою, свойственную ей, область, суживая число знаменательных в этой области тем, и разрабатывает этот минимум тем'.1 Интенсивностью поэтического метода Тютчева объяснялся ограниченный объем его поэтического творчества.
Поэтическое наследие Анненского столь же невелико и в такой же степени представляет собой узкий круг тем, для раскрытия которых он находит множество сюжетов и интонационных ключей. Но сами темы повторяются им снова и снова. О поэзии Анненского можно говорить в терминах введенного Пумпянским в литературный обиход понятия 'интенсивный метод'.
Есть определенные детали, характеризующие поэтику этого метода у Анненского; они же говорят о том, что он сознательно строил в рамках такого метода 'тематические гнезда' в своей лирике. Один из примеров: у Анненского есть стихотворение под названием 'Еще лилии', в котором трудно усмотреть связь между текстом и заглавием. В стихотворении говорится о том, что, когда наступит смерть, из всех предметов и впечатлений жизни он хотел бы взять с собой в иной мир 'лишь аромат и абрис нежный' лилии. Почему же 'Еще лилии', т. е. к чему это 'еще'? Если помнить, что в 'Тихих песнях' Анненский поместил цикл стихотворений под заглавием. 'Лилии', состоящий из трех лирических текстов, окажется, что это 'еще' в заглавии - ключ, который отсылает нас к этому циклу: еще одно стихотворение о лилиях.
Стихотворение 'Опять в дороге' помещено в сборнике 'Тихие песни' наряду со стихотворением 'В дороге', к которому и относится это 'опять' первого заглавия. Интересно, что в сохранившемся автографе одной из редакций стихотворения 'Опять в дороге'2 есть зачеркнутое заглавие '3а Пушкиным' (первый вариант заглавия: 'Над Пушкиным'), которое говорит не только о том, что это стихотворение входит в группу однотемных
1 Пумпянский Лев. Поэзия Ф. И. Тютчева // Урания. Тютчевский альманах. Л., 1928 С. 11.
2 РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 100 (это часть макета первого варианта сборника, еще называвшегося 'Из пещеры Полифема').
35
стихов у самого Анненского, но и указывает на сходство поэтической темы у Анненского с пушкинской.3
Вообще поэзия Анненского имеет тенденцию к циклизации. Это очевидно не только из композиции 'Кипарисового ларца' с его 'трилистниками' и 'складнями' или из тех нескольких циклов, которые Анненский формально выделил выделил в 'Тихих песнях'. Это в такой же степени очевидно из неявной, потенциальной циклизации в тех же 'Тихих песнях'. Как о своего рода цикле можно говорить о рядом поставленных стихотворениях с названиями времен года. Еще один потенциальный цикл составляет ряд стихотворений ('У гроба', 'Двойник', 'Который?', 'На пороге' и даже 'Листы'), толкующих тему 'двойничества', как ее понимает Анненский: то выступающую как сугубо внутренний конфликт, то открывающуюся как конфликт 'я' и 'не-я'. И самый смысл 'циклизации' заключается в уравнивании этих конфликтов, в интерпретации их в конечном счете как конфликта одного порядка, одной природы.
Об этой формально нереализованной в 'Тихих песнях' циклизации говорит ряд стихотворений этого сборника с одинаковыми заглавиями, но умышленно рассредоточенных в самом сборнике: это 'мучительные' и 'фортепианные' сонеты. Несмотря на отмеченную посредством нумерации общность их, Анненский дает, например, 'Второй мучительный сонет' в составе 'Лилий', а 'Третий мучительный сонет' вне всяких циклов. Факт внесения сонета, отмеченного характеристиками 'группы', в цикл, составленный совсем по другим признакам, дает нам материал для анализа 'цикла' как тематической единицы в контексте Анненского. Признак 'мучительный сонет' или 'фортепианный сонет' не является достаточным для помещения стихотворения в цикл. Поэтому Анненский, с одной стороны, отмечает 'групповую' общность стихотворений с этими признаками, а с другой - не рассматривает их как циклическое (т. е. предметно-тематическое) образование.4
3 На тему 'Зимней дороги' Пушкина Анненский написал 'Второй мучительный сонет' ('Вихри мутного ненастья'), помещенный им в 'Тихих песнях'.
4 Признаки 'интенсивного метода' у Анненского могут быть обнаружены даже
в таком явлении, как соответствие, перекличка между его оригинальными
стихами и переводами из чужой поэзии (ср.: Черный К.
Анненский и
Тютчев // Вестник МГУ. 1973. ? 2. Сер. X (филология). С. 12). В целом
можно отметить почти единодушное мнение всех, кто когда-либо занимался
этой проблемой, что Анненский 'свободно' обращался с оригиналом (Федоров
А. Поэтическое творчество Иннокентия Анненского
// СиТ 59. С. 58; Эткинд Е. Французская поэзия
в зеркале русской литературы // Французские стихи в переводе русских
поэтов XIX-XX вв. М., [Б. г.]. С. 37-39). Особый интерес в этом смысле
представляет анализ переводов Анненского из Еврипида, сделанный
Ф. Ф.
Зелинским в связи с его изданием этих переводов (Зелинский Ф.
Предисловие редактора // Театр Еврипида. М., 1917. Т. 2). Одно следует и
из сличения переводов, и из откликов на них: для Анненского перевод
никогда не был отделен границей от его собственного поэтического
творчества. Поэтому и переводимых авторов он выбирал исходя из того,
насколько близки они были к его собственным поэтическим интересам (этот
же критерий отмечался и исследователями творчества Тютчева: Берковский
Н. Ф. И. Тютчев // Тютчев Ф. И. Стихотворения. М.; Л., 1969. С. 23).
Первый сборник Анненского представлял собой соединение в одном корпусе
собственных стихов и переводов. Более того, в первоначальном варианте
тексты оригинальных и переводных стихотворений шли вперемежку. В
'Кипарисовом ларце' такая композиция уже отсутствует. Соединение в
пределах одного сборника своих и переводных текстов, при том что
расположение оригинальных текстов в книге умышленно избегает всякой иной
типологизации (хронологической, топографической, жанровой), кроме
тематической, само по себе может служить свидетельством того, что
Анненский рассматривает всю книгу стихов в целом как единый синхронный
контекст. Поэтому она и открывается программным стихотворением
'Поэзия', а по первоначальному замыслу ее должна была открывать статья
'Что такое поэзия?', в которой речь шла о всей современной поэзии. Таким
образом, стихи автора в сборнике
36
рассматривались как своего рода иллюстрация
самых общих представлений о современной поэзии, уравниваясь в этом
смысле с переводами. При таком понимании 'интенсивный метод' может
выражаться в поисках генетически родственного поэтического материала.
Идея 'перевода' в таком контексте утрачивает четкость границ, отделяющих
перевод от оригинального творчества. Образцом такого рода усвоения
чужого текста может служить 'Il
pleure dans mon coeur' Верлена, в переводе Анненского
'Песня без
слов'. На этом переводе Анненский не остановился. Он пишет
стихотворение 'Октябрьский миф', которое, безусловно, можно считать
переработкой этого же верленовского текста, но уже целиком в терминах
собственной лирической поэзии Анненского. Исследователем (Черный К.
Указ. соч. С. 12) отмечено сходство между такими оригинальными и
переводными стихами, как 'Старая шарманка' и
'Шарманка' Мюллера,
'Смычок
и струны' и 'Смычок' Шарля Кро,
'Идеал' и
'Библиотека' Мориса Роллина,
'Лира часов' и
'Сомнение' Сюлли Прюдома.
Эта близость поэзии Анненского к выбираемой им для переводов привела к
показательной ошибке: в издании его стихотворений 1959 года А.
Федоров опубликовал в разделе оригинальных стихов лирический отрывок
'Грозою полдень был тяжелый напоен', который на деле является
переводом из Анри Ренье ('Quel qu'un reve d'aube et d'ombre'). Ничего
удивительного в такой ошибке нет; например, для составителя сборника одна из 'лирических формул' этого отрывка ('И сад в его уборе
брачном') вполне могла быть опознана как лирическая формула
оригинальной поэзии Анненского (ср.: 'И запомнив, невестой в саду Как
в апреле тебя разубрали' - 'Невозможно'. Это о весне, а вот об осени:
'Сад туманен, сад мой донят Белым холодом низин, Равнодушно он
уронит Свой венец из георгин' -
'Осенняя эмаль').
Особый интерес представляет существование в лирике Анненского стихов-вариантов, стихов-дублетов. Формально только одна из таких пар была помещена самим поэтом в составе 'Трилистника соблазна' ('Кипарисовый ларец') с заглавием 'Маки' и 'Маки в полдень. Вариант'. Вторая пара с одинаковыми первыми двумя строками ('Сила господняя с нами...') и с обозначением одного из стихотворений 'вариант' была опубликована сыном Анненского, Валентином Кривичем, в 'Посмертных' стихах', т. е. без последней воли автора. Сличение обоих текстов не дает оснований оценивать их в отношении друг к другу как беловая и черновая редакции: это несомненно варианты. Эти два примера не исчерпывают круг вариантов. Можно перечислить целый ряд таких стихов-дублетов у Анненского: 'Аметисты' в 'Кипарисовом ларце' и 'Аметисты' в 'Посмертных стихах', 'Свечка гаснет' и 'Сон и нет', 'Я думал, что сердце из камня' и 'Пробуждение' и множество промежуточных, стоящих' близко к этой категории текстов. Другой вопрос, насколько однородным явлением можно считать этих 'двойников'. Одни из них представляют собой больший интерес, другие меньший. В такой, например, паре, как 'Желание' и 'Только мыслей и слов', при всей близости их в отношении сюжета и сходстве их образного строя, представляется трудным доказать, выросли ли они из одного текста, из одной темы, или являются случайным воспоминанием сходной лирической мысли. Вернее всего, этот тип вариантов есть частный случай общей тенденции поэтического текста Анненского к 'воспоминанию' себя, в виде ли устойчивого образа, интонации или (как в данном случае) сюжета. Как пример такого воспоминания одним текстом другого можно привести 'Не могу понять, не знаю' и 'Дремотность'. Несколько иной характер вариантности представляют собой два стихотворения с одинаковым заглавием 'Аметисты', только одно из которых было напечатано Анненским в 'Кипарисовом ларце'.5 Образцом вариантов этого типа могут также служить стихотворения 'Свечка гаснет' и 'Сон и нет', явно выросшие из одного текста.
5 В архивной папке РГАЛИ (Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 53) с заглавием 'Стихи из сборника "Кипарисовый ларец" с правкой автора' имеются помещенные на одной странице два рукописных (не рукой Анненского) варианта 'Аметистов' ('Когда сжигая синеву...' и 'Глаза забыли синеву'), второй из которых зачеркнут Анненским и позднее был напечатан Кривичем в 'Посмертных стихах' как отдельное стихотворение.
37
Именно здесь и возникает вопрос, что можно считать 'вариантами' в привычном смысле слова (т. е. черновая в отличие от беловой редакции того же стихотворения), а что является разными стихотворениями.6 Более того, как сам Анненский относился к своим 'вариантам', т. е. до какой степени черновая и беловая редакции могли уже сами по себе служить поэтическим приемом?
В комментариях к последнему изданию Анненского в 'Библиотеке поэта' (1990 год) о стихотворении 'Свечка гаснет', которое сам Анненский поместил в 'Тихих песнях', сказано, что имеются 'пять автографов: один беловой, четыре черновых <...> и два автографа других редакций' (С. 567), т. е. речь идет о традиционных понятиях 'черновая - беловая редакции'. Вместе с тем уже после смерти Анненского его сын опубликовал в 'Посмертных стихах' текст одной из этих так называемых черновых редакций как отдельное стихотворение под заглавием 'Сон и нет'. Этого заглавия в автографе Анненского нет, хотя принадлежит оно, скорее всего, самому Анненскому в силу того игрового момента, который так характерен для его поэтики. 'Сон и нет' прочитывается как 'соннет', находясь в полном соответствии с орфографической нормой написания этого слова самим Анненским. Нет никаких сомнений, что стихотворение 'Сон и нет' является еще одним вариантом стихотворения 'Свечка гаснет'.7
Выяснение статуса этих 'вариантов' - только частично вопрос текстологический; тут надо учитывать и какие-то аспекты поэтики Анненского. Так, если взять группу текстов, составленную из стихотворения 'Свечка гаснет', опубликованных комментаторами черновых редакций к нему и напечатанного Кривичем текста 'Сон и нет', то нужно сказать, что все они восходят к своего рода 'первотексту' - пушкинскому стихотворению 'Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы'. Это нетрудно увидеть при простом сопоставлении стихотворений. Более того, можно высказать предположение, что и стихотворение без заглавия 'Не могу понять, не знаю...', автографов которого не сохранилось и которое было напечатано впервые только в 1959 году по снятому списку,8 тоже является своего рода ответвлением группы стихотворных текстов 'Свечка гаснет' - 'Сон и нет'.9
В рамках 'интенсивного метода', проявлением которого в поэзии Анненского является наличие вариантов, затемняющих представление о черновой и беловой редакциях, одна тема получила у него особенно широкое распространение: создание стихотворения. Пожалуй, только у Пастернака можно найти столь же частое обращение к этой теме, на поверхности нередко завуалированное (как, впрочем, и у Анненского)
6 Сама проблема поэтики 'вариантов', насколько мне известно, рассматривается только в работе Л. Флейшмана 'Борис Пастернак в двадцатые годы' (München, [S. а.]). Автор на материале позднейших переработок Пастернаком своих ранних стихов приходит к выводу, что эти переработки есть не что иное, как варианты исходных текстов. При этом, по мысли Л. Флейшмана, 'происходит игра на равноправности появившихся в разное время вариантов - на равноправности вариаций темы' (С. 93-95 и далее).
7 Ср.: 'Бред то был или признанье? Путы жизни, чары сна Иль безумного желанья Забежавшая волна?'.
8 Хотя, судя по одной из строф, представляющей собой вариант автографа к 'Тихим песням', время его написания относится ко времени, когда создавался корпус 'Тихих песен', т. е., вполне вероятно, ко времени, когда могло писаться стихотворение 'Свечка гаснет'.
9 Подтверждением сказанному может служить и одно из заглавий стихотворения Анненского из 'Тихих песен' - 'Парки - бабье лепетанье' - по строчке из указанного стихотворения Пушкина.
38
каким-нибудь предметно-психологическим сюжетом, казалось бы, ничего общего с так называемой 'метапоэтической' темой не имеющим. Таково стихотворение Анненского 'Мухи-мысли'; оно же является указанием на особый характер темы у Анненского: это рассказ о 'неудачном' стихотворении. Поэтические тексты, входящие в эту тематическую группу, имеют достаточно узкий и повторяющийся набор сюжетов и лексики.
Два стихотворения из этой группы обращают на себя внимание, оба из первого сборника Анненского 'Тихие песни': 'Ненужные строфы' и 'Третий мучительный сонет'. В качестве предварительной гипотезы отметим, что оба стихотворения представляются нам вариантами одного поэтического текста.
Датировать их трудно. Известно, что 'Тихие песни' практически были собраны и подготовлены к печати уже к 1901 году. Неясно, сколько раз Анненский менял состав сборника в промежутке между этим временем и 1904 годом, когда он был напечатан. Даже первоначальное заглавие намечалось другое: 'Из пещеры Полифема'. Сохранился автограф комментария Анненского к первому составу сборника, написанный еще тогда, когда туда предполагалось поместить статью 'Что такое поэзия?': 'Прилагаемые стихотворения отнюдь не подбирались для доказательства высказанных (в статье. - В. Г.) мыслей. Они писались в течение многих лет (зачеркнуто: в разное время. - В. Г.) и разными чернилами. Связь их со статьей основана исключительно на личной унии'.10 Когда Анненский дал сборнику название 'Тихие песни', в точности неизвестно. Признавая вполне справедливым предположение, что это заглавие Анненского есть цитата из лермонтовского 'Ангела' (впервые, по-видимому, высказано Сечкаревым),11 считаю вполне возможным, что здесь на Анненского имело влияние заглавие поэтического сборника некоего В. Лебедева 'Тихiя песни' (вышел в Петербурге в 1901 году). Почти невероятным кажется, что Анненский мог не знать об этом сборнике, широко рекламировавшемся в центральной печати почти в течение месяца. Стоит сделать несколько выписок из этого сборника, чтобы дать представление о странно отдаленном сходстве тем, образов и настроений в нем с лирическими мотивами Анненского. Выписываю из первого же, программного, стихотворения в сборнике:
Но жизнь не спит! Она опять
В зловеще-диком беспорядке
Начнет томить,
начнет пугать
Нас новым ужасом загадки.
А вот из другого стихотворения, тоже вначале:
Тускло светит пламя свечки.
Клонит к лени и ко сну;
Треск огня в горящей печке
Нарушает тишину...
И - в мечте моей неясной
Я гляжу, таясь в тени,
Как, свиваясь, синий, красный
Разгораются огни...
Или уж совсем напоминающее Анненского, его 'Трилистник ледяной':
10 РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 2.
11 Setchkarev Vsevolod. Studies in the Life and Work of Innokentij Annenskij. The Hague, I 1963. P. 31.
39
Но зачем среди снегов,
В блеске мантии алмазной,
Человеческих шагов
След чернеющий и грязный?..
Если это так, если Анненский знал о 'Тихих песнях' Лебедева, он умышленно повторяет заглавие уже существующего поэтического сборника. Скорее всего, перед нами пример одного из характеристичных аспектов его поэтики: сличение собственной поэзии с поэзией 'другого'. Условно я называю эту характеристику словом самого Анненского - 'другой', имея в виду его стихотворение с тем же заглавием ('Другому') в качестве образца наиболее яркого выражения этой тенденции (ср. тип заглавия 'Я и он'). Тенденция эта роднит его с Баратынским; очевидно, что Анненский сознавал это. В самом заглавии 'Тихие песни' есть несомненный отзвук стихов 'Мой дар убог и голос мой негромок', равно как и в ритмическом рисунке стихотворения 'Другому' присутствует воспоминание все о том же стихе Баратынского.12
Мотивом 'другому' отмечены и оба выбранных нами для анализа стихотворения:
<здесь приводятся полностью стихотворения 'Ненужные строфы' и 'Третий мучительный сонет'>
12 Мотив 'другому', кстати, выходит за пределы сличения в рамках только поэтического творчества. Примером распространения этого мотива вообще на сферу миросозерцания Анненского может служить стихотворение 'Спутнице'. Интересна попытка формально-лингвистического определения этой 'точки зрения' поэта как 'другого', данная Н. Д. Арутюновой: 'Если взглянуть на поэтическое произведение сквозь призму диалога, то ему будет соответствовать не инициальная реплика, признаваемая диалогическим "лидером", а ответ, отклик, часто реакция возражения, отталкивания. Поэт - всегда "другой"' (Арутюнова Н. Д. Высказывание в контексте диалога / Revue des etudes slaves. 1990. Т. 62. Fasc. 2. P. 21). Вряд ли это утверждение покрывает большинство поэтических текстов, но даже там, где оно приложимо, нужно еще, чтобы из момента поэтической речи это явление стало у поэта осознанной темой, т. е. идеологизировалось.
40
'Ненужные строфы' и 'Третий мучительный сонет' представляют собой два аспекта одной поэтической темы: создание стихотворения, которое автор, оценивая его с точки зрения 'другого', считает 'дефектным', эстетически неполноценным (неудачей). Вместе с тем утверждается возможность этой неудачи иметь определенную ценность для самого автора, с его точки зрения. С самого начала в каждом из стихотворений представлены две точки зрения на поэтический текст: авторская и не-авторская. Это и выражено в самом построении стихотворений, представляющих собой, несмотря на сонетную форму, единое речевое высказывание и обладающих сходной логикой синтаксиса, которую можно описать следующим образом: нет, не [то], а [это], но [это есть для меня то]. Каждое из стихотворений в рамках этой общей для них схемы есть своего рода вариация ее.13
Сходство двух стихотворных текстов идет дальше схематизированной логики поэтического синтаксиса. Уже при первом чтении можно уловить подобие ритмического, тематического и даже морфологического состава первых строф. В них одинаково говорится о собственных стихах; обе метрически представляют собой 6-стопный ямб (смешанный 6-стопный и вольный ямб, по классификации М. Лотмана); в обеих рифмуются абстрактные существительные на -енье или -анье, что в данном случае тождественно. Сходно в обоих стихотворениях и восклицание 'увы!'14 Наконец, оба стихотворения имеют форму сонета. Анненский также. указал на их связь самими заглавиями: 'Ненужные строфы' имеют подзаголовок 'сонет', в то время как в 'Третьем мучительном сонете' подзаголовок 'строфы'; имеется как бы сонет о строфах и строфы о сонете.15
13 Так, 'Ненужные строфы' можно описать следующим образом: [1-2] Нет, никто не назовет мои стихи прекрасными; [3-4] только я знаю им цену; [5-8] вот какие они, и они должны погибнуть; [9-14] но саму картину их гибели можно вообразить себе прекрасной. Описание же 'Третьего мучительного сонета' сведется к следующему: [1] Нет, никто не назовет мои стихи прекрасными; [2-4] вот какие они; [5-8] но я люблю их вот за что; [9-12] без них я пал бы духом в жизненной борьбе; [13-14] но я люблю их, как мать любит больных детей.
14 Судя по черновику 'Третьего мучительного сонета', это восклицание было добавлено Анненским к уже написанной строке.
15 Определение 'мучительного сонета' как 'третий' открывает возможность интерпретировать как цикл группу стихов, отмеченную последовательностью счета: 'Мучительный сонет', 'Первый мучительный сонет', 'Второй мучительный сонет', 'Третий мучительный сонет'. При этом обнаружится отсутствие в указанной группе первого 'мучительного сонета' при наличии двух 'Вторых мучительных сонетов', из которых один был помещен Анненским в 'Тихих песнях', а второй ('Вихри мутного ненастья', с очевидным подтекстом из пушкинской 'Зимней дороги') в 'Кипарисовом ларце'. Сама последовательность, в которой размещены стихотворения в 'Тихих песнях' ('Ненужные строфы' - 'Второй мучительный сонет' - 'Третий мучительный сонет'), может быть своего рода указанием на то, что 'Ненужные строфы' являются как бы замещением отсутствующего 'Первого мучительного сонета'. Здесь следует также учесть работу Анненского над заглавием 'Ненужных строф', которое менялось по меньшей мере три раза. В черновике сонета, который хранится в РГАЛИ, первоначальное заглавие было 'У камина', затем замененное на 'Экран'. Текст стихотворения в РГАЛИ, по-видимому, не окончательный вариант, так как из двух версий, данных в
41
десятой строке ('храним' и 'таим'), оставлена последняя, тогда как в опубликованном варианте ей была все-таки предпочтена первая. Трудно сказать, были ли еще варианты заглавия и не был ли один из них 'Первый мучительный сонет'. Возможно, что Анненский дал стихотворению заглавие 'Ненужные строфы', желая сохранить заглавие-ключ к стихотворному тексту, представляющему собой определенного рода загадку.
Говоря о различии двух стихотворных текстов как вариаций, следует отметить и различие в самом способе поэтического выражения темы. Пользуясь терминологией Анненского,16 одно из этих стихотворений можно обозначить как 'чисто субъективное', другое как 'образное'. 'Третий мучительный сонет' строится как непосредственное высказывание с элементами лирической риторики, так часто свойственной Анненскому. 'Ненужные строфы' по характеру выражения представляют собой перифрастическое описание предметной ситуации, при которой, по словам М. Л. Гаспарова, 'читателю предлагается по названию догадаться о чем-то неназванном'.17 Реальный план остается, таким образом, загаданным.18
Если обратиться к предметному содержанию 'Ненужных строф', то оно не вполне ясно.19 Традиционное употребление слова 'жемчужины'
16 Ср. в статье 'Символы красоты...': 'Отношение Пушкина к красоте характерно проявилось как в его образных, так и в чисто субъективных его символах' (КО. С. 131).
17 Гаспаров М. Л. Петербургский цикл Бенедикта Лившица: Поэтика загадки // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. 1984. Вып. 664. С. 96 (Тр. по знаковым системам, XVIII).
18 Первое указание на такого рода поэтику у Анненского - 'поэтику
загадки' - дал уже Вяч. Иванов в своей
статье-некрологе, появившейся в 'Аполлоне' в1910 году. Вяч. Иванов прямо указал и на источник такой
поэтики - Малларме - и дал разбор двух из таких 'загадочных'
стихотворений Анненского, 'Идеал' и 'Тоска', показывая, какие реалии
лежат в основе их неясной образности. Известно, что в момент написания
статьи он имел под рукой экземпляр 'Тихих песен', одолженный ему
Кривичем, с пометками на полях, имеющими дешифровочный характер.
Первая попытка систематического исследования поэтики загадки на
материале цикла
петербургских стихов Бенедикта Лившица, и тоже с отсылкой к Малларме,
была дана
М. Л. Гаепаровым (Гаспаров М. Л. Указ. соч. С. 102). В этой же работе
есть упоминание и о 'русском Малларме' Иннокентии Анненском как об одном из зачинателей в
нашей поэзии
стихового типа, к которому это определение ('загадка') вполне приложимо.
Действительно, не только характер поэтических текстов в 'Тихих песнях' дает нам
представление об этом, но и сама установка Анненского на восприятие стихов в контексте
'поэтики загадки'. Об этом говорят и авторский псевдоним (Ник. Т-о), и красноречивые для
такой установки заглавия:
'Который?',
'∞',
'?', вне зависимости от того, какова
эстетическая ценность таких заглавий. Ср. построенный по логике 'загадки', т. е. узнавания
неназванного предмета по указаниям на него, самый синтаксис заключительной строфы в
стихотворении 'Открытые окна': 'Не Скуки ль там Циклоп залег, От
золотого зноя хмелен, Что, розовея, уголек В закрытый глаз его
наделен?'.
19 Сличение черновых вариантов с окончательным текстом дает
представление о том направлении, в котором шла работа над
стихотворением. При этом выясняются интересные
подробности: работа над заглавием и работа над самим текстом
стихотворения шла в прямо противоположных направлениях. Заглавие все
больше удалялось от предметного плана (ср. хронологическую
последовательность вариантов: 'У камина' - 'Экран' - 'Ненужные строфы',
где предметный план с каждым последующим вариантом сдвигается в сторону
плана интерпретации), а самый текст все больше к нему приближался. Так,
строка 'Из жерла черного метала глубина' читалась первоначально как
'На
солнце темная метала глубина'. Разница здесь та, что 'жерло черное' есть
перифраза каминного отверстия, в то время как 'солнце' уводит от
предметного плана к плану ассоциативному, т. е. интерпретации.
Окончательный вариант строки 'Тем до рожденья их отвергнутым созданьям'
имел две первоначальные версии: 'Тем до рожденья их замученным созданьям'
и 'Тем до рожденья их уж проклятым созданьям'. В обоих случаях степень
предметности была значительно ниже, чем в беловом варианте.
'Замученные' предполагали какой-то иной контекстуальный 'сюжет' в поэзии
Анненского, а 'проклятые' прямо соотносились с поэтической
терминологией, представленной в этом же сборнике в названии переводимых
им французских поэтов: 'парнасцы и проклятые'. 'Отвергнутые' в этом
смысле прямо отражали конкретный сюжет сожжения стихов в 'Ненужных
строфах'.
Конец второго катрена 'Но погребальная свеча уж зажжена' первоначально
читался как 'А страшная постель для них уж зажжена', что определенно
мешало читателю следовать
42
прямым указаниям на предметный план
стихотворения, ибо даже имея в виду, что в этой метафоре легко
вычитывалось 'смертное ложе', она тем не менее мешала усвоению целостной
связи метафорически-предметного плана трудно воспринимаемым образом
зажженной; постели. 'Погребальная свеча' в этом случае гораздо
естественнее вводит в предметный сюжет погребения. При этом в предметном
плане становится даже неважным, идет ли здесь речь о зажженном огне в
камине, куда бросается отвергнутое стихотворение, или о свече, зажженной
в сумерках, как части сюжетного приготовления к сожжению стихов. Оба
чтения делают определеннее предметный план, проясняют метафору.
Строка 'Без лиц и без речей разыгранная драма' первоначально была иной:
'Без лиц и без речей, но истинная драма'. Замена 'истинная' на
'разыгранная'), т. е. замена риторической оценки на указание к
сюжетному действию, - еще одно свидетельство смещения характеристик
текста к предметному плану. Строка 'Огонь под розами мучительно храним'
есть окончательный вариант первоначального 'Огонь мучительно и бережно
таим'. Сравнение двух вариантов также говорит о явном намерении
приблизить метафору к предметному плану. Введение 'роз' как общепоэтической метафоры здесь обманчиво, если вспомнить, что одним из
заглавий стихотворения должно было быть предметное заглавие 'Экран'.
'Розы', таким образом, есть в такой же степени предметный, как и
метафорический образ: это розы, вышитые на ткани, обтягивающей каминный
экран.
Последняя строка первого терцета 'И светозарный бог из черной ниши
храма' первоначально имела образ 'в лазурной нише', что, вероятно,
соответствовало позже зачеркнутому 'солнцу' в первом катрене, но
путало и разбивало единый предметный план. 'Черная ниша' же
соответствует 'жерлу черному', заменившему 'солнце', и возвращает нас к
предметному плану - к каминной нише, в которой разжигается огонь.
И наконец, исправление последней строки стихотворения 'Идут к
нему, стыдясь своей пурпурной тоги' на 'идут к нему приять пурпуровые тоги' может показаться,
с точки зрения, соотношения с
предметным сюжетом, несущественным. Однако если всмотреться в различие,
то это совсем не так. Даже если при соотнесении двух перифраз с
предметным планом каждая из них в равной мере обозначает движение
свертывающейся от жара бумаги по направлению к огню (импрессионистически
отмеченное в слове 'стыдясь' медленное, как бы неохотное, с возвратами, движение коробящихся и вспыхивающих листов бумаги) - все же
'стыдясь' есть обозначение через состояние, а 'приять' - через действие
(я опускаю, разницу в интерпретации), что делает окончательный вариант
ближе к предметному плану.
в значении поэтического слова дает выражению 'метала глубина' двойной смысл.20 Во-первых, жемчуг достают с глубины; во-вторых, здесь имеется в виду 'идиоматическая' глубина (построенная на бытовом фразеологизме 'в глубине души'), глубина как душевный мир. В скобках отметим, что непривычное лексическое сочетание 'жемчужины метала глубина', не отражающее в нашем представлении никакой предметной реалии (ибо ловля жемчуга не связана с действием, обозначенным глаголом 'метать'), вместе с тем понятно как отражение 'словесной', 'фразеологической' реальности, а именно: 'метать жемчуг' (Матфей, 7, 6) или 'метать бисер'. Важным здесь представляется словесная природа образа 'жемчужин'. На эту словесную природу указывает и значение образа 'жерло' в этом тексте. Скорее всего, Анненский ссылается на архаическое значение этого слова: 'жръло' могло означать как 'горло', так и, по метонимической связи, 'голос' (ср.: 'Возопихъ жерломъ великимъ' - Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1895. Т. 1. С. 888 (репринт: М., 1958)). Одновременно в круге архаических значений 'метать' сочеталось со 'словом': 'Мѣтающе словеса' (Там же. Т. 2. С. 130). Сказанное позволяет заключить, что один из аспектов предметной реалии здесь может быть ассоциирован с произнесением поэтом своих стихов (ср. в 'Третьем мучительном сонете', описывающем подобную, же ситуацию: 'Я повторяю их на память в полусне').
Вторая строфа основана на принципе ассоциации слова и вещи, привычном для поэтичёской системы Анненского. Слово-ключ к этой ассоци-
20 Первая строфа у Анненского осложнена цитатой из стихотворения Лермонтова 'Кинжал': 'И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла, Но светлая слеза - жемчужина страданья'. Вместе с реминисценцией из Лермонтова в стихотворение Анненского вошла и антитетичность лермонтовского образа: не кровь, но слеза.
43
ации - 'листва', намекающее на двойное значение 'листы' и 'листы'. Предметные картины, ассоциируемые со стихами, представляют собой автоцитаты из поэзии самого Анненского и вводятся в текст как вещи-темы. 'Как чахлая листва, пестрима увяданьем' - это аллюзия из 'Сентября': 'Раззолоченные, но чахлые сады С соблазном пурпура на медленных недугах...' (с дальнейшими отсылками к Пушкину и Тютчеву); 'И безнадежностью небес позлащена' является близким повторением одного из образов в стихотворении Анненского 'Май': 'Что безвозвратно синева, Его златившая, поблекла'. Обе строки объединены одной темой - последнее мгновение перед смертью; в первой строке это конец года (осень), во второй - конец дня (закат, вечер). В обоих стихотворениях, процитированных в качестве источника, к которому отсылают строки сонета, эта тема дана как красота умирания. С этим же смыслом входят предметные эквиваленты стихов и в сонет, как это видно будет ниже.
Определенную загадку в плане реалий представляют собой два терцета. Мы предлагаем следующую разгадку этой предметной ситуации. Речь идет о камине, в котором сжигаются листы с отвергаемыми стихами. Человек сидит перед камином и смотрит на каминный экран (первоначальное заглавие стихотворения и было 'Экран'), на котором он видит отражение огня, пожирающего листы со стихами. Поэтому и говорится, о драме, разыгранной 'без лиц и без речей'. Что касается строки 'Огонь под розами мучительно храним', то какова бы ни была ее интерпретация, в ней можно увидеть предметную реалию, если представить себе каминный экран, обтянутый китайским шелком, на котором эти розы были изображены. 'Светозарный бог из черной ниши храма' - это огонь в обгоревшей каминной нише. 'Он улыбается, он руки тянет к ним' - очень точная импрессионистическая фиксация предметной реалии. Так сказано о вспышках огня: вспышка пламени в камине озаряет лицо. Лицо, озаренное пламенем, в плане фразеологических аналогий ассоциируется с лицом, озаренным улыбкой. Отсюда возникает слово 'улыбается'. Наконец, последняя строка 'Идут к нему приять пурпуровые тоги' - отражение предметной реалии коробящихся, сворачивающихся листов, готовых вспыхнуть. Таким представляется предметный план лирической ситуации.
В свете этого предметного плана выясняются и вещественные признаки в первой строфе. 'Не жемчужины', которые 'мечет глубина', - это искры, вылетающие из каминного отверстия, в котором разжигается огонь, предназначенный уничтожить листы со стихами ('Но погребальная свеча уж зажжена'). 'Жерло' - это и есть каминное отверстие, готовое пожрать в своем пламени стихи (ср. одно из значений слова 'жерло': 'отверстие во внутрь чела русской печи'. См.: Словарь русского языка. СПб., 1907. Т. 2. С. 376). Антитезу первой строфы можно сформулировать следующим образом: здесь речь идет не о рождении стихов, а о их сожжении.
Вместе с тем отраженный план строится иначе. На отражающем экране камин представлен как храм, огонь как Аполлон, и вся сцена дается как сцена посвящения, хотя у этой сцены двойной смысл: посвящение есть в то же время смерть. 'Светозарный бог' - это атрибутация не только Аполлона, это и аллюзия на Смерть (через аллюзию на стихотворение Баратынского 'Смерть', где последняя названа 'светозарная краса'). Кроме того, в корпусе греческих мифов Аполлон считался и богом поражающим, несущим смерть. Двойной смысл сцены отражает тему красоты умирания, представленной в качестве более общей темы новой поэзии, как она понимается Анненским: красота страдания, красота муки.
44
Об этом говорит нам строка 'Огонь под розами мучительно храним'. В плане традиционном это переработка общепоэтической метафоры (ср. у Тютчева в стихотворении 'Август 1850': 'Сыплет искры золотые, Сеет розы огневые'). Анненский представляет эту метафору так, что она приобретает сюжетный характер и, таким образом, легко узнается в предметном плане, включая его в себя. Эту метафору легко опознать в традиционном же изображении чахотки, 'медленного недуга', прикрытого румянцем. Так рисует Анненский картину осени в 'Сентябре', вслед за пушкинским изображением 'чахоточной девы' в 'Осени'. Однако смысл этой метафоры в 'Ненужных строках' отсылает нас к мысли о красоте, которая рождается из страдания, и возвращает нас к самому началу стихотворения, к его первой строке. То, что там отрицалось, здесь предстает как утверждение. Параллелью к неудаче, заявленной вначале, является здесь удача: 'Идут к нему приять пурпуровые тоги' (где 'пурпуровые тоги' - древнеримский атрибут и символ власти и признания). От начала к концу стихотворение развивается в направлении: отвержение стихов - их апофеоз.
Обобщая сказанное, можно так описать характер сюжета: ситуация сожжения 'ненужных строф' одновременно представлена как ситуация создания стихотворения. Мы имеем как бы стихотворение в стихотворении. Описание этого создаваемого стихотворения композиционно совпадает с двумя терцетами в сонете и одновременно является описанием отраженных вещных реалий.
Сама ситуация сожжения стихов довольно подробно прокомментирована у Анненского. Приведем только один пример. Статью 'Эстетика 'Мертвых душ' и ее наследье' он начинает с подробного описания рисунка Александра Солоницкого 'Последние дни жизни Гоголя', где писатель изображен сидящим у камина, в котором горит рукопись второго тома 'Мертвых душ'. Комментарий Анненского таков: 'Пусть это не свиток загорается с отнятым у нас сокровищем, а уже готовый потухнуть - вспыхивает напоследок и тот единственный в мире поэт, который умел слить в экстатической любви к бытию <...> пыльный ящик с гвоздями и верой в золотую полосу на востоке <...> Пусть это еще прежний Гоголь устроил себе перед очагом последний праздник золотого перебирания страниц жизни'.21 В процитированном отрывке легко увидеть не только ту же схему - уничтожение, трансформируемое в рождение, - но и общую тему, осмысливающую подобную трансформацию: красота, рождающаяся в момент умирания и как момент умирания.
В его поэзии можно выделить круг стихотворений, изображающий последний момент перед закатом, конец дня или осенний сюжет, в котором проступают признаки близкой смерти. И в этом последнем мгновении есть та пороговая ситуация, в которой сознание неожиданно открывает для себя красоту предметного мира как красоту жизни. Это не вещи сами по себе, не их собственная красота, а тот особый отблеск на вещах мысли, осознающей свою единственность и в этой единственности вечность этого последнего мгновения. Анненский не поэтизирует смерть: она у него, скорее, драматизирует концепцию красоты. На этой красоте лежит налет трагичности. Но именно в силу этого ситуации, в которых эта красота возникает, часто ассоциируются Анненским с поэзией, символом которой они являются, как, например, в стихотворении 'Май':
21 КО. С. 226.
45
Так нежно небо зацвело,
А майский день уж тихо тает,
И только пыльное
стекло
Пожаром запада блистает.
Сонет Анненского по сути есть лирическая вариация некоторых положений, касающихся поэтического творчества, которые были им высказаны в статье 'Эстетическое отношение Лермонтова к природе': 'Я не говорю уже о внутренней, добумажной работе: черновые рукописи обыкновенно полны поправок, а бросание в огонь неудачных набросков вошло в пословицу. Можно с уверенностью сказать, что высокое поэтическое создание <...> это феникс, вечно возрождающийся из пепла. Огонь пожрал вторую часть "Мертвых душ", но кто знает, сколько поэтических созданий возродил он в форме, более близкой к идеалу поэта'.22 Даже в этом заявлении, выраженном в простых и не оставляющих сомнения понятиях, можно выделить метафору, в которой легко увидеть основу разбираемого нами стихотворения: огонь, пожирающий поэтическое произведение и одновременно возрождающий его. Так видится нам лирическая метаморфоза сюжета: уничтожение отвергнутого стихотворения может предстать как создание стихотворения, эстетически принимаемого.
Чтобы понять эту трансформацию, следует обратить внимание на определение, данное поэтическому сюжету на экране, а именно: 'драма'. Анненский настаивает на точном понимании такого характера изображения. Даже в синтаксическом строении первого терцета это подчеркнуто буквальным 'перечислением' действующих лиц этой драмы. Безусловно, 'драма' имеет двойной план значений: с одной стороны, внутренняя драма, переживание которой связано с сожжением стихов, с другой - зрительный аспект отраженной предметной ситуации. Это зритель своей собственной драмы, но представленной уже в реальности вещей.23 Ведь созерцающий видит на экране воплощенную в предметную реальность тему своей поэзии: красоту умирания - как раз то, о чем говорилось в пятой и шестой строках стихотворения. Существенной является и античная окраска этой драмы. Сожжение стихов как сюжет в ней приобретает метафорический смысл принесения в жертву, являясь, таким образом; драматизацией пушкинских строк 'Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон', где так названо вдохновение и творческий процесс создания стиха.
Но драматизация не значит здесь театр китайских теней, наблюдаемый зрителем. В сущности речь идет о драматизации отношения мысли к вещи. Эта их особая связь дана на экране как метафора рождающегося
22 Там же. С. 244, Ср. в письме к Бородиной (6 августа 1908 года): '<...> одно меня утешает, что разобрал все свои бумаги (за 30 лет) и сжег все свои дразнившие меня и упрекающие материалы, начинания, проекты и вообще дребедень моей бесполезно трудовой молодости'. Ср. также в письме к Мухиной того же времени (23 июля 1908 года): 'Недавно происходило auto-da-fe. Жглись старые стихотворения, неосуществившиеся планы работ, брошенные материалы статей, какие-то выписки, о которых я сам забыл... мои давние... мои честолюбивые... нет, только музолюбивые лета... мои ночи... мои глаза... за тридцать лет тут порвал я и пожег бумаги'.
23 Ср. в статье Анненского о Еврипиде 'Поэт "Троянок"': 'Нет, Еврипид интереснее сближается с Кассандрой в моменте эстетическом. Заметьте эту комбинацию ужаса и радости. То, что происходит вокруг поэта, есть часть его самого, и в то же время он тоже может смотреть со стороны, и мало - смотреть, любоваться на это может. Радость Кассандры безумна, но это самая живая и естественная радость, потому что художник не только испытывает все то, что дает теперь Кассандре ее безумную радость, но это именно он первый и единственный созерцал уже когда-то то, что развернется теперь перед зрителями' (РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1.Ед. хр. 96. Л. 45).
46
стихотворения, метафора, сюжетно представляющая создание стиха как принесение жертвы. Содержательность такого метафорического сюжета мы понимаем так: вдохновение, творческое состояние есть отказ от замкнутости и отдельности субъективного мира 'я', принесение его в жертву. Это одно из центральных эстетических положений Анненского, высказанных им как желание 'я' слиться со всем, что не является им.24 Только через это слияние и ищет 'я' ценностного своего оправдания в том общем смысле, частью которого оно хочет себя видеть.
Интересно в этой связи понимание Анненским своего любимого Еврипида, высказанное в статье 'Трагедия Ипполита и Федры': 'Ипполит - это искатель новой веры, бесстрашный идеалист, мечтатель, которого пол оскорбляет как одна из самых цепких реальностей <...> Мне Ипполит Еврипида кажется более всего тоской и болью самого поэта по невозможности оставаться в жизни чистым созерцателем, по бессилию всему уйти в мир легенд и творчества, или стать только мозгом и правой рукой, как мечтал когда-то Жюль де Гонкур'.25 Безжеланность, т. е. состояние, в котором отсутствует воля, определяет сложный комплекс сознания и поэтических построений у Анненского. Один из литературных критиков, В. Александров, в статье 1939 года об Анненском, хотя исходил из узкосоциологических толкований, все же уловил реальность самой этой проблемы у Анненского: 'Оценка Анненским "Тамани" подтверждает то, что <...> Анненский понимал, какой ущерб приносит гипертрофированная и беспомощная декадентская чувствительность человеку и художнику, лишая его объективности, возможности видеть, понимать, подменяя внимание к жизни болезненной фиксацией на своих ощущениях и переживаниях'.26 Гораздо ближе к сути этой проблемы подходит Омри Ронен: 'Влияние эстетики Шопенгауэра и его теории смешного легко проследить в статье (Анненского. - В. Г.) "Юмор Лермонтова" <...> В полном соответствии с заветами Шопенгауэра Анненский подчеркивает именно законность эмоционального безучастия и интеллектуальной отрешенности от "воли" в заново обретенных "вещах-мыслях" (rebus!)'.27
Мы понимаем тему безжеланности у Анненского как отказ в поэзии от индивидуальной судьбы. В связи с этим в лирике его часто повторяется один мотив, который является разработкой лермонтовского 'Я б хотел забыться и заснуть, Но не тем холодным сном могилы...'. Ср. в стихах, разных по времени написания: 'Если б заснуть, Но не навеки...' ('Падает снег'), 'Когда б не смерть, а забытье' (одноименное стихотворение). В 'Тихих песнях', в цикле 'Лилии', есть вариация этой темы: 'А ты, волшебница, налей Мне капель чуткого забвенья...' ('Падение лилий'). 'Забвение' есть, таким образом, состояние внутренней отрешенности от своей судьбы и 'воли' (ср.: 'Ни о чем не жалеть... Ничего не желать..' - 'На воде').28
24 Об этом так сказано в одном из его писем: 'Зачем не дано мне дара доказать другим и себе, до какой степени слита моя душа с тем, что не она, но что вечно творится и ею, как одним из атомов мирового духа, непрестанно создающего очаровательно пестрый сон бытия! <...> Как иногда мне тяжел этот наплыв мыслей, настроений, желаний - эти минуты полного отождествления души с внешним миром <...>' (КО. С. 466). 'Отождествление души с внешним миром' - это и есть отказ от первичности субъективного 'я'.
25 Анненский И. Трагедия Ипполита и Федры // ЖМНП. 1903. Ноябрь. С. 466.
26 Александров В. Иннокентий Анненский // Литературный критик. 1939. ? 5-6. С. 125.
27 Ронен Омри. Кому адресовано стихотворение Иннокентия Анненского 'Поэту'? // Text. Symbol. Weltroodel. München, 1984. S. 453.
28 Ср. стихотворение Анненского 'Электрический свет в аллее', построенное на мотивах пушкинского 'Заклинания', смысл которого заключается как раз в страхе сознания вопло-
47
титься в индивидуальную судьбу, в стремлении к 'забвению'. В этом контексте смерть, с которой отождествляется забвение, наделяется смыслом 'смерть желаний'. Укажем также на связь этой темы для Анненского с мотивами 'блаженной' беспредельности 'дремлющего мира' у Тютчева, которые Анненский психологизировал.
Трагичность позиции Анненского, однако, заключается в невозможности реальности быть ценностно самостоятельной для сознания. В качестве примера привожу стихотворение 'Тоска маятника', где переживается эта невозможность:
И лежу я околдован,
Разве тем и виноват,
Что на белый циферблат
Пышный
розан намалеван.29
Это сознание, испытывающее вину вмешательства, внесения в ценностное бытие своих субъективных переживаний, страхов, мучительного индивидуального опыта:
Тело скорбно и разбито,
И его волнует жуть,
Что обиженно-сердито
Кто-то
мне не даст уснуть.
Тут описано очень простое психологическое состояние: человек устал, но не может уснуть, потому что его мучает страх, что он не сможет заснуть, и вот он не спит от собственного страха. Однако это важная тема психологического повествования Анненского: перед человеком, мучимым собственными страхами, реальность предстает его собственным 'двойником', двойником сознания.
В лирике Анненского как раз и повествуется часто, как мучительно не дано душе выйти за пределы своего субъективного бытия, единственным смыслом которого является смерть. На этой невозможности по существу строятся философские, если можно их так обозначить, основы его лирики. Их можно определить следующим образом: отказ от общего смысла как найденного результата, но поиски этого смысла, реализующиеся как процесс. Поэтому, говоря о самом существенном в поэзии Анненского, надо прежде всего отметить, что это поэзия скорее вопросов, чем ответов, поэзия, модальность которой, основной тон которой обозначены им как 'недоуменье' или 'сомненье'. В этом он отличен от основной линии русских символистов, для которых картина мира рисовалась гораздо более устойчивой.
Отсюда и самый отказ поэта от самодовлеющей роли субъективного носит не радостный, а мучительный характер. И наконец, эстетическая ценность созданного может отождествляться для Анненского с самим процессом создания, как это представлено в 'Ненужных строфах'. Здесь
29 Ср. перекличку не только первой из приведенных строк Анненского ('И лежу я околдован'), но и ритмической модели всего стихотворения с тютчевским 'Чародейкою Зимою...': 'И стоит он околдован, - Не мертвец и не живой, - Сном волшебным очарован, Весь опутан, весь окован Легкой цепью пуховой'. У Тютчева сказочный мотив спящего леса ложится прямо на контуры знакомого сюжета 'спящей красавицы'. Мифологичность его образов ищет себе опоры в этой сказочной канонизированности, неслучайности, несубъективности. 'Чудная жизнь', 'красота' у Тютчева представлена в каком-то отдалении от субъекта; восприятие здесь отвердевает и отделяется от воспринимающего. Тютчев говорит о красоте 'чудной жизни' природы, которой человек любуется, забывая о себе. Она вся предстоит сознанию завершенная, замкнутая в себе как созерцаемое ценностное бытие. Стихотворение Анненского прямо противоположно по концепции, но самая противоположность эта открывается как раз в сличении с тютчевским текстом.
48
в самом заглавии ценностность отрицается как результат. Вместе с тем в тексте стихотворения она восстанавливается как процесс.
Так тема 'негромкого голоса', взятая как тема у Баратынского, получает у Анненского развитие уже в связи с его собственными эстетическими принципами. 'Негромкий голос' не содержит в себе для Анненского однозначности недостаточного поэтического дарования, но связывается им с эстетической проблемой 'возможности - невозможности' для художника выйти за пределы своего субъективного опыта.30
Сходную проблему и поэтический тезис мы найдем и в 'Третьем мучительном сонете', где, как было отмечено выше, сходство распространяется уже на самый характер поэтического высказывания, хотя фраза осложнена здесь двойным 'но' ('но все мне дорого...', 'но я люблю стихи...'). Начало первой строфы - своего рода ответная реплика в диалоге, выходящем за пределы текста, адресат которого неясен или может толковаться в широких пределах.31
Анненский в этом стихотворении приводит своего рода 'биографический' комментарий к собственному творчеству. В первом катрене сказано: 'Я повторяю их на память в полусне, Они - минуты праздного томленья, Перегоревшие на медленном огне'. У нас есть свидетельство сына поэта, В. Кривича, о том, как были написаны отцом многие стихи: 'Его сон, в большинстве случаев, выражался в каком-то легком, прозрачном полузабытьи, во время которого неустанно продолжала работать мысль <...> Есть немало стихотворений Иннокентия Анненского, сочиненных им во время этих паутин забвений и лишь записанных утром'.32 Отсюда становится ясной строчка: 'Я повторяю их на память в полусне', т, е. чтобы не забыть до утра. (В черновом автографе было 'начинаю'; это тоже интересный аспект поэтики Анненского: 'начинаю' и 'на память' говорят о
30 Тема 'негромкого голоса' была принципиальным выражением взгляда Баратынского на художника как на явление прежде всего самобытное. Самобытность эта измерялась для него внутренним опытом страдания личности, которое одно является источником поэтического выражения: 'Не напряженного мечтанья Огнем услужливым согрет - Постигнул таинство страданья Душемутительный поэт. В борьбе с тяжелою судьбою Познал он меру высших сил. Сердечных судорог ценою Он выраженье их купил' ('Подражателям'). Подобный же взгляд на поэта как на страдающую личность, а на творчество как на реальность переживания развивает и Анненский. Ср. поэтическое обращение к сыну, тоже поэту, в стихотворении 'Любовь к прошлому': 'Ты не придешь мечтой красы воспоминаньям, Их надо выстрадать И дать им отойти'. Здесь совпадает с Баратынским не просто словарь, но самая антитеза, оформленная этим словарем. Ср. также статью 'Мечтатели и избранник', само заглавие которой является вариантом все той же антитезы, где в качестве основного различительного признака между 'мечтателем' и 'избранником' (поэтом) выдвинут признак реального опыта переживания: 'Но алмазные слова и не даются даром. Облюбовав человека, который любит ее не на шутку, жизнь раздразнит его соблазнами, она истомит его, как любовница <...> Хуже: еще до наступления его рокового и любострастного сна (так Анненский обозначает поэтическое вдохновение. - В. Г.) жизнь заставит поэта сознать воочию и с болезненной ясностью, что он не только не царь вселенной, но, наоборот, бессильнейшая и ничтожнейшая часть ее же, любимой им жизни, мизинец ее ноги, что он лишь безразличный атом, который не только не вправе, но я не властен обладать поглотившим его миром' (КО. С. 127). Этот принцип 'выстраданности' становится для Анненского критерием самого поэтического слова; ср. из 'Надписи к портрету Блока': 'Слова его горят - на солнце георгина, Горят, но холодом невыстраданных слез'. О поэзии Анненского в целом можно говорить как о поэзии, в которой искренность становится эстетической категорией.
31 Ср. частое у Анненского обращение к 'собеседнику', который может быть в разной степени удален от автора: трезвый собеседник ('Скажите, что сталось со мною...' - 'Бабочка газа'), современник ('И я дрожу за вас, дрожу за свой покой' - 'Прелюдия') или даже потомок ('Меж вас одно недоуменье Все будет жить мое...' - 'Моя тоска').
32 Кривич В. Иннокентий Анненский по семейным воспоминаниям и рукописным материалам // ЛМ. С. 215-216.
49
некоем до-субъективном предсуществовании стиха, поэтической формы; ср. стихотворение 'Мой стих', весь посвященный этой мысли.) Интересно, Кривич не говорит, что отец вообще так сочинял, но Анненский берет именно эти случаи для выражения ситуации 'вдохновения'.33 Поэтический сюжет вдохновения умышленно дается им как 'биографический': этой ситуацией он отмечает субъективно-биографический аспект творчества, о котором шла речь выше, в связи с 'Ненужными строфами', и в котором следует видеть причину 'дефектности' его поэтических созданий. В этом смысле первый катрен и есть объяснение того, почему этим стихам 'не суждены краса и просветленье'.
Оценивая с этой стороны его поэзию, Максимилиан Волошин однажды заметил: 'Это написано в минуты горестных замедлений жизни <...> хандры, усталости и упадка сил. Лирика отразила только одну - эту сторону его души'.34 Для Волошина творческое состояние Анненского питали 'все эти мучительные антракты жизни, вынужденные состояния безволия, неизбежные упадки духа между двумя периодами работы': Таковы были те минуты отдыха, которые он отдавал своей собственной душе, ритму своего я'.35 Это почти дословный 'перевод' первого катрена из 'Третьего мучительного сонета'. Безусловно, перед нами биографическая реалия одного из таких ночных состояний, требующая расшифровки тех 'подтекстов' его поэзии, которые переводят стихотворение из биографического в лирический план.
Мы не предлагаем здесь подробного анализа стихотворения не только потому, что, пускай в зачаточном виде, такие попытки уже делались,36 но главным образом потому, что о некоторых подробностях этого сонета удобнее говорить, сравнивая его с другим поэтическим текстом - пушкинским стихотворением 1830 года 'Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем', которое, по-моему, и является подтекстом 'Третьего мучительного сонета':
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным,
безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой.
Когда,
виясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она
торопит миг последних содроганий!
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я.
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле
-
И делишь наконец мой пламень поневоле!
33 'Бессонницы' - одна из центральных тем у Анненского - прочно связаны в его лирическом мире с темой создания стихотворения. Почти все метафоры у него ночные. И это не только в стихах; ср. статью 'Мечтатели и избранник' с ее любовной метафорой ночного свидания поэта с жизнью. Недаром из всех пушкинских описаний творческого процесса Анненский выбрел одно: 'Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы' (ср.: 'Парки - бабье лепетанье' из цикла 'Бессонница').
34 Волошин М. Лики творчества. И. Ф. Анненский-лирик // А. 1910. X; 4. С. 13.
35 Там же. С. 15.
36 Setchkarev Vsevolod. Op. cit.
50
Первое, что бросается в глаза при сопоставлении двух этих лирических текстов, - совпадение ритмического рисунка первых строк: в обоих 6-стопный ямб с начальным спондеем, с цезурой после первых трех стоп, с одинаковым звуковым обликом рифмующегося конца (женская рифма). Одинаково и число строк в обоих стихотворениях: четырнадцать. Анненскому, казалось бы, диктует форма сонета, и перед нами простое совпадение. Но пушкинские 14 строк построены как строфы, а подзаголовок сонета Анненского - 'Строфы' - явно отсылает нас к пушкинскому графическому построению.37 Отметим в скобках, что важным здесь может оказаться жанровый мотив сюжета: 'сонет'. В последнем слово выдвинуто как тема, оно естественнее ощущается как таковое в силу всех условий и условностей сонета. Поэтому указание в подзаголовке ('Строфы') может восприниматься на этом фоне как неудача в той мере, в какой слово не обретает форму сонетной красоты (ср. заглавие одного из стихотворений Анненского: 'Тринадцать строк', т. е. сонет без одной строки, незаконченный, неисполненный сонет).
Способ рифмовки целой октавы у Анненского монотонный: в обоих катренах повторены только две рифмы: на -нье (-нья) и -не (ср. с пушкинской рифмовкой, где в двух строфах появляются в таком же количестве (4) вынесенные в рифму абстрактные существительные на -нье: наслажденьем, исступленьем, моленья, упоенья). В рамках сопоставления сонета Анненского и его пушкинского подтекста такое повторение воспринимается как желание 'продлить' первоначальное ритмико-синтаксическое сходство с первой пушкинской строкой уже не в качестве общего указания, но как конкретную перекличку двух сюжетов. На фоне этого
37 Следы пушкинской лексики обнаруживает сонет Анненского и на стилистическом уровне. К кругу этой лексики можно отнести слово 'краса', широко у Пушкина представленное, которое приобрело декларативную известность у многих поколений через некрасовскую 'цитацию' (ср. 'Поэт и гражданин'). Слово 'праздный' (ср. 'праздное томленье') - особое в словаре пушкинской эпохи (ср. культ праздности как поэтического состояния). См. у Пушкина: 'В часы забав иль праздной скуки, Бывало, лире я моей Вверял изнеженные звуки Безумства, лени и страстей'. Кажется, что словосочетание 'часы <...> праздной скуки' могло быть усвоено Анненским как 'минуты праздного томленья', но оно осложнено контаминацией из другого пушкинского стихотворения - 'Дар напрасный, дар случайный': 'Сердце пусто, празден ум, И томит меня тоскою Однозвучный жизни шум' (ср. в 'Парки - бабье лепетанье' вариации на пушкинские 'Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы': 'Томя и нежа ожиданьем, Они, бывало, промелькнут, Как цепи розовых минут'). Пушкинским можно счесть даже 'туман' в этом контексте, отвлекаясь на время от лирической системы самого Анненского (ср. у Пушкина в 'Цыганах' в сходном контексте: 'Волшебной силой песнопенья В туманной памяти моей Так оживляются виденья То светлых, то печальных дней'). 'Туманная тишина' Анненского - тот же образ воспоминания, памяти. К 'пушкинским' словам, при всей кажущейся их нейтральности, может быть отнесен и 'план'. Ср. в 'Евгении Онегине': 'Я думал уж о форме, плана <...>)', а также хрестоматийно известное замечание Пушкина: 'Но плана нет в оде я не может быть: единый план "Ада" есть уже плод высокого гения' ('Возражение на статью Кюхельбекера в "Мнемозине"'). Из Пушкина же слово 'восторг' (ср. '<...> восторгу моему Едва ответствуешь'). В приведенном отрывке из 'Возражения на статью Кюхельбекера в "Мнемозине"' о восторге в связи с вдохновением сказано: 'Критик смешивает вдохновение с восторгом. Нет, решительно нет: восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного <...> Восторг есть напряженное состояние единого воображения. Вдохновение может быть без восторга, а восторг без вдохновения не существует'. Есть немалое искушение считать этот отрывок своего рода 'подтекстом' стихотворения Анненского. Наконец, даже слово 'труд', столь отмеченное в системе Анненского (ср. его замечания о Толстом), имеет лирическую окраску пушкинского контекста (ср. в 'Разговоре книгопродавца с поэтом': 'Вам ваше дорого творенье, Пока на пламени труда Кипит, бурлит воображенье'). В пушкинской системе 'труд' отмечен не как противоположность 'вдохновенью', но как его необходимое дополнение (ср. 'Труд': 'Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи'). 'Пушкинским' можно назвать и слово 'святей' с его установкой на возвышенную, т. е. традиционно-поэтическую лексику (ср. в 'Поэте': 'Молчит его святая лира').
51
ритмического сходства воспринимаются и ключевые слова: 'я не дорожу' (Пушкин) и 'мне дорого' (Анненский). Параллель которую устанавливает здесь Анненский между своим и пушкинским сюжетами, - это параллель между 'дефектной' любовной связью и 'дефектными' стихами.
Второй катрен Анненского, где описан процесс рождения стихов, внешне следует развертыванию сюжета во второй пушкинской строфе. Наконец, замыкающая катрен строфа-итог варьирует пушкинское 'мучительно счастлив' и 'восторгу моему' из второй строфы, с повторением 'мой' ('мое мучение и мой восторг оне'). Заключительные две строки сонета, существующие на фоне пушкинского каданса (выделенного анафорическим и глагольным повтором), - два различных итога. У Пушкина есть разрешительность каданса в любовном слиянии. У Анненского - умышленный отвод этой темы: незавершенность, неразрешимость творческого акта он замещает подставленной темой любви к поэзии. При этом он вводит сюда метафору 'мать - больные дети', так сказать, 'семейную', приобретающую особый смысл на фоне пушкинского 'самопризнания', где речь идет об отношениях любовных, где семейные источники отношений скрыты.
Обращает на себя внимание два раза повторенное 'но' у Анненского. Сюжетная схема стихотворения рисуется так: а) нет, мои стихи никто не назовет прекрасными; б) вот какие они; в) но я люблю, их вот за что; г) без них я пал бы духом в жизненной борьбе; д) но я люблю их, как мать любит больных детей. Такая схема настраивает ожидание читателя на завершительное причинно-следственное 'и' в кадансе. Иначе не совсем понятна связь между смежными высказываниями: 'без них я пал бы духом', 'но я люблю их'. Любовь к стихам, по такой логике, возникает вопреки тому, что они помогают поэту в жизненной борьбе. Очевидно, что это заключительное 'но' имеет отношение не к предыдущему высказыванию, а, скорее, к нетекстовой реальности; это как будто бы ответ на возможное и предугадываемое обвинение в несовершенстве его стихов. Вместе с тем, имея в виду пушкинский подтекст этого сонета, конечная реплика у Анненского может восприниматься как оправдание, за которым стоит пушкинский итог-победа, могущий видеться как контраст к результатам собственного творчества. При этом любовь к результатам своего творчества у Анненского по сути заявлена как любовь к самому процессу создания.
Общее сходство сонета Анненского с пушкинским стихотворением строится на контрасте, предлагаемом этим последним: два типа любовных отношений, где предпочтение отдается тому типу, в котором конечный результат, представленный как победа, оценивается степенью нелегкости завоевания. При этом выступает в качестве значимого самый процесс завоевания.
Несмотря на очевидные знаки того, что пушкинское стихотворение является подтекстом сонета Анненского, само это предположение может показаться странным, учитывая различный характер лирической темы в обоих текстах. Однако у самого Анненского можно найти комментарий к такому параллелизму: '<...> для физиолога является установленным фактом близость центров речи и полового чувства <...> Не здесь ли ключ к эротике Брюсова, которая освещает нам не столько половую любовь, сколько процесс творчества, т. е. священную игру словами'.38 Стихотворение Анненского - тоже 'самопризнание', с подчеркнутой интимностью
38 Анненский И. О современном лиризме / А. 1909. ? 1. С. 27.
52
отношений поэта и его созданий. С этой точки зрения мера интимности пушкинского текста отличалась только качеством, на этом отличии и построено сопоставление. Кроме того, не надо забывать, что Анненский был филологом. Эта сторона дает о себе знать и там, где значения слов - дело лирического, а не только филологического контекста. Метафора любовный связи для обозначения творчества не редкость в поэзии, она не редкость и у Анненского тоже: 'И вот в награду за ряд разочарований, может быть, падений, за терпеливо сносимые обиды, покидая наутро постель своего призрачного любовника, жизнь оставляет ему несколько символов'.39
Происхождение же самой любовной метафоры и ее ценность для него лежат в плане этимологии, указывая на два значения в пределах одного слова познать: а) постигнуть, понять; б) вступить в связь, пожениться (ср. пример из Срезневского: 'Едино токмо жену познати законом'). Ср. также пояти - поняти - 'сочетаться браком, понять, постигнуть'. Для русского читателя двузначность слова 'познать' в конечном счете восходит к библейскому тексту ('Адам познал Еву, жену свою; и она зачала...' - Бытие, 4, 1), но для Анненского, классического филолога, эта двузначность могла восходить еще и к греческому языку.40
Интимный текст Пушкина подходил Анненскому как раз в силу его несомненно 'биографической' окраски. Тут дело даже не в самой биографии Пушкина, а именно в 'биографичности' как таковой. Мера интимности была и своего рода метафорой отношения новой поэзии к материалу (ср. замечания об отношении новой поэзии к природе в статье 'Что такое поэзия?').
Выбор пушкинского 'самопризнания' в качестве подтекста для своего сонета, вероятней всего, диктовался и пониманием соотношения 'биографического' и 'творческого' у самого Пушкина. В плане 'биографическом' Анненский писал об этом следующее: 'Любовь Пушкина к жене была как бы довершением или, точнее, жизненным осуществлением того взгляда на красоту, который проходит через всю его поэзию. Пушкин так же мало и так же неполно владел этим сияющим равнодушием, этой самодовлеющей и холодной красотой, как и его герои'.41 В плане же творческом те же 'самопризнания' он называл 'призрачной победой его. (поэта. - В. Г.) над красотой'. 'Призрачная' не значит нереальная, ибо для поэзии такое толкование сомнительно (понятие 'призрачный', как и понятие 'мечтательное общение с жизнью', у Анненского является категорией реальности духовного мира). Точнее всего понятие 'призрачный' можно определить как 'поэтический', 'творческий'. По отношению к Пушкину (или к 'поэту' вообще) связь 'биографического' и 'поэтического' так обозначалась Анненским: 'И в чистый жемчуг перелил Поэт, свои немые слезы'. Эта формула нами взята из его кантаты 'Рождение и смерть поэта', посвященной Пушкину и помещенной в 'Тихих песнях' между двумя его стихотворными текстами, о которых речь шла выше - таким образом, начало 'Ненужных строф' ('Нет, не жемчужины, рожден-
39 КО. С. 127.
40 Ср. в этой связи замечание С. Аверинцева: 'Так, у Менандра девица
сознается, что обольститель "познал" (
41 КО. С. 131.
53
ные страданьем') представляет собой как бы результат прямого сопоставления своих стихов с пушкинскими.
Из рассмотренного можно сделать следующие выводы:
1. Стихотворения Анненского 'Ненужные строфы' и 'Третий мучительный сонет' не только написаны на одну поэтическую тему, не только относятся к одной и той же группе стихов, не только совпадают в своих значимых элементах, но и представляют собой варианты одного текста. Говоря 'варианты', мы не имеем в виду двух версий какого-то первоначального текста. Речь идет, скорее, о двух вариантах какого-то мыслимого, но так и не написанного или не реализованного поэтического текста, который условно можно назвать 'идеальным' (ср.: в 'Тоске припоминания' ситуация создания стихотворения дается как невозможность прочесть забытый предзаданный идеальный текст: 'И слились позабытые строки До зари в мутно-черные пятна'). Комментарий к понятию о подобного рода тексте можно найти у самого Анненского, причем не однажды. Пример из статьи 'Эстетическое отношение Лермонтова к природе' уже цитировался выше. Вот отрывок из другой статьи, о 'Портрете' Гоголя: 'Написал ли Гоголь свою "мадонну Звезды"? Может быть, и написал, но не здесь, а в другой, более светлой обители <...>'42
2. В качестве 'идеального' поэтического текста, или 'инварианта', двух рассмотренных стихотворений Анненского нам видится пушкинский текст. При этом надо помнить, какое значение имела для Анненского пушкинская поэзия. Ср. замечание Ю. М. Лотмана об общем отношении Анненского к пушкинской поэзии, которая представлялась ему номинализацией поэзии как таковой.43 Ср. также замечание А. Е. Аникина: 'Весьма существенно, что идея поэтического совершенства связывается Анненским именно с Пушкиным, творчеству которого он как бы противопоставляет свое собственное'.44
3. Насколько можно судить по анализируемым стихам и - шире - по всему контексту не только его поэзии, но и прозаических работ, создание 'идеального' текста принципиально невозможно, возможны лишь поиски его - 'варианты'. И эти 'варианты', 'черновики' 'идеального' текста - своего рода модель творчества Анненского. Тотальность этой модели распространяется даже на его литературно-критические статьи. В этом смысле представляют интерес его бесконечные варианты редакций статей и высказывания по поводу Еврипида (значительная часть их все еще находится в архиве РГАЛИ), о котором он, вероятно, хотел написать какую-то одну 'идеальную' статью.45
42 Там же. С. 16.
43 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 111.
44 Аникин А. Е. Ахматова и Анненский. Новосибирск, 1988. С. 41.
45 Ср. в его письмах: 'Мой исторический очерк, которого я так боялся, заканчиваю теперь перепискою, и, кажется, это лучшее, что я написал (об Еврипиде. - В. Г.)' (1907 год; РНБ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 41); 'Эта последняя работа ('Таврическая жрица у Еврипида, Руччелаи и Гете'. PDF - В. Г.), по-моему, лучшее, что я написал об Еврипиде' (1908 год; КО. С. 480); 'Я думаю, что никогда еще так глубоко не переживал я Еврипида, как в авторе 'Троянок', и так интимно, главное' (1909 год; Там же. С. 488).
![]()